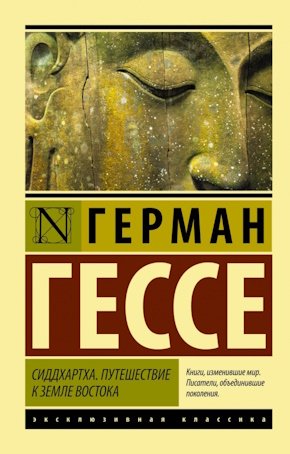– Ты слушал учение, о сын брахмана, и благо тебе, что ты так глубоко вникал в него. Ты нашел в нем пробел, ошибку. Продолжай и дальше вдумываться в него. Но избегай, любознательный, дебрей мнений и споров из-за слов. Не в мнениях дело, каковы бы они ни были – прекрасны или безобразны, умны или нелепы, каждый волен соглашаться с ними или отвергать их. Но учение, которое ты слышал от меня, не мнение, и не в том его цепь, чтобы объяснить мир для людей любознательных. Его цель иная – искупление, избавление от страданий. Бот чему учит Гаутама – и ничему иному.
Да не прогневается на меня Возвышенный, – сказал юноша. – Не затем, чтобы спорить, препираться из-за слов, я позволил себе так говорить с тобой. Воистину, ты прав, не во мнениях дело. Но позволь мне заметить еще одно: ни на одно мгновение я не усомнился в тебе. Ни на одно мгновение не возникало во мне сомнение в том, что ты Будда, что ты достиг той высшей цели, к какой стремятся столько тысяч брахманов к сыновей брахманов. Ты нашел спасение от смерти. Ты достиг этого собственными исканиями, собственным, тобой самим пройденным путем – размышлением, самоуглублением, познаванием, просветлением. Но не принятием какого-нибудь чужого учения. И моя мысль, о Возвышенный, такова – никому не достичь спасения благодаря какому бы то ни было учению. Никому, о Достопочтенный, не сумеешь ты передать и высказать словами и поучениями, что испытал ты в час просветления. Многое содержит в себе учение просвещенного Будды, многих оно научит жить по правде, избегать зла. Но одного нет в этом столь ясном, столь высоком учении – в нем не раскрыта тайна того, что Возвышенный пережил сам, он один среди сотен тысяч. Вот что думалось и выяснилось мне, когда я слушал тебя. И вот причина, почему я снова пускаюсь в странствие. Не затем, чтобы искать другого, лучшего учения – такого, я знаю, нет, – а затем, чтобы порвать со всеми вообще учениями и учителями, и одному либо достигнуть своей цели, либо погибнуть. Но часто буду я вспоминать, о Возвышенный, тот день и час, когда мои очи зрели святого.
Глаза Будды смотрели в землю; тихим, совершеннейшим бесстрастием сияло его непроницаемое лицо.
– Пусть твои мысли, – медленно проговорил он, – не окажутся заблуждениями. Желаю тебе достигнуть своей цели. Но скажи мне: видал ли ты толпу моих саман, моих многочисленных братьев, прибегнувших к учению? И думаешь ли ты, чужой самана, что для них всех было бы лучше отказаться от этого учения и вернуться к мирской жизни с ее страстями?
– Далека от меня подобная мысль! – воскликнул Сиддхартха. – Пусть они все остаются верными учению, пусть достигают своей цели! Не подобает мне судить других. Только для себя, для себя одного я должен составить свое суждение, должен избрать одно, отказаться от другого. Мы, саманы, ищем избавления от Я. Если бы я стал одним из твоих учеников, о Возвышенный, то, боюсь, мое Я только с виду успокоилось бы, нашло бы только призрачное искупление, в действительности же продолжало бы жить и даже выросло еще более, ибо тогда самое учение и моя приверженность к нему, моя любовь к тебе и общность монахов стали бы моим Я.
С полуулыбкой, с непоколебимой ясностью и приветливостью во взоре Гаутама взглянул юноше в глаза и попрощался с ним едва заметным движением.
– Ты умен, мой друг, – сказал Возвышенный, – и умно умеешь говорить! Остерегайся, однако, чрезмерного умствования.
И дальше проследовал Будда, но взгляд его и полуулыбка навсегда запечатлелись в памяти Сиддхартхи.
– Никогда, ни у одного человека я не видел такого взгляда, такой улыбки, – думал Сиддхартха, – никогда не видал я, чтобы кто-нибудь так сидел и ступал, как он. Желал бы и я быть в состоянии так глядеть и улыбаться, сидеть и ходить – так непринужденно и величаво, так сдержанно и открыто, так по-детски просто и таинственно. Поистине, так может смотреть, ступать только человек, проникший в сокровенную глубину своего Я. Ну, что ж – постараюсь и я достигнуть того же!
– Одного только человека видел я, – продолжал свои раз мышления Сиддхартха, – одного единственного, перед кота-рым я должен был опустить глаза. Ни перед кем больше я не стану опускать глаз! Ни одно учение уже не может соблазнить меня, раз я не поддался учению этого человека.
– Многое отнял у меня Будда, – думал Сиддхартха, – многого лишил он меня, но еще больше подарил мне. Он отнял у меня друга, человека, который верил в меня, а теперь верит в него, который был моей тенью, а теперь стал тенью Гаутамы. Но зато он подарил мне Сиддхартху, подарил меня самого...
ПРОБУЖДЕНИЕ
Покидая рощу, где пребывал Будда и где остался его друг, Сиддхартха почувствовал, что в этой же роще он оставил за собой и всю свою прежнюю жизнь, что он навсегда расстался с нею. И это ощущение так захватило его, что он ни о чем более не мог думать. Медленно продолжая свой путь, он старался разобраться в самом себе. Словно человек, нырнувший в глубокую воду, он спустился на самое дно этого ощущения, к его причинам, ибо в выяснении причин, – полагал он, – и состоит цель мышления; только путем такого выяснения ощущение становится познанием и не улетучивается, а приобретает сущность и начинает излучать тот свет, который в нем заключается.
Медленно продолжая свой путь, Сиддхартха предавался размышлениям. Прежде всего он установил, что уже перестал быть юношей, что он возмужал. Установил, что, подобно змее, сбрасывающей с себя старую кожу, освободился от того, что существовало в нем в течение всей его молодости – от желания иметь наставников и учиться у других. Последнего учителя, встреченного им на своем пути, даже его, величайшего и мудрейшего из учителей, святейшего Будду, он покинул: он должен был уйти от него, не мог принять его учения.
И, еще более замедляя свои шаги, погруженный в свои мысли, Сиддхартха спрашивал себя:
– Чему же, собственно, ты хотел научиться от учителей и из их учений, и чему именно, сколько тебя ни учили, они все-таки не сумели научить тебя?
И пришел к заключению:
– Познать Я, его смысл и сущность – вот чего я добивался. Я хотел отрешиться от этого Я, побороть его. Но не смог. Я мог только обманывать его, убегать от него, прятаться от него. Поистине, ничто в мире не занимало в такой степени мои мысли, как это мое Я, как та загадка, что я живу, что я представляю отдельное, обособленное от всех других существо, что я – Сиддхартха. И ни о чем другом в мире я не знаю так мало, как о себе – о Сиддхартхе.
Погруженный в размышления, медленно продвигающийся вперед странник остановился, пораженный этой мыслью, и тотчас же из последней выскочила новая мысль, следующая: «То, что я ничего не знаю о самом себе, что Сиддхартха остался для меня таким чуждым и неизвестным, обусловлено одной только причиной: я боялся самого себя, я убегал от самого себя. Я искал Атмана, искал Брахму, я стремился разобрать свое Я по частям, очистить его от всех оболочек, чтобы отыскать в его неизведанной глубине ядро всех этих оболочек, – Атмана, жизнь, Божественное, первооснову. Но себя-то самого я при этом потерял...»
Сиддхартха поднял глаза и оглянулся кругом. Улыбка заиграла на его лице, и все его существо пронизало такое чувство, точно он пробудился от долгого сна. Он двинулся дальше, но теперь он шел бодрым скорым шагом, как человек, знающий, что ему нужно делать.
– О, – думал он, вздохнув с облегчением, – теперь я не дам больше Сиддхартхе ускользать от меня. Не стану больше посвящать все свои мысли и жизнь Атману и страданию мира. Не стану больше умерщвлять и разрушать себя, чтобы найти за развалинами какую-то тайну. Ни Йогаведа, ни Ат-харваведа или какое-либо другое учение не будет больше руководить мною. К самому себе я поступлю в учение, у самого себя я буду изучать тайну, именуемую Сиддхартхой.
Он стал оглядываться кругом, словно в первый раз увидел мир. Как прекрасен был этот мир, как разнообразен, как странен и загадочен был мир! Пестрели синие, желтые, зеленые краски, текли небо и река, поднимались лес и горы, – все было так прекрасно, загадочно и волшебно, а посреди всего этого великолепия – он, Сиддхартха, пробуждающийся, на пути к самому себе. И все это – все это желтое и голубое, лес и река – впервые лишь входило в Сиддхартху через глаза, – все это не было больше чарами Мара или покрывалом Майи, не было больше бессмысленной и случайной множественностью мира явлений, столь презренной в глазах глубоко мыслящего брахмана, который пренебрегает множественностью и ищет единства. Синее было синим, река была рекой, и хотя и в голубом, и в реке, и в Сиддхартхе пребывало в скрытом виде единое и божественное, но ведь в том именно и заключалось свойство и смысл божественного, чтобы здесь быть желтым или синим, там – небом или лесом, а тут Сиддхартхой. Смысл и сущность были не где-то вне вещей, а в них самих, во всем.
– До чего я был глух и туп! – думал Сиддхартха, быстро идя вперед. – Если кто-нибудь, читая рукопись, хочет доискаться ее смысла, то не станет же он презирать знаки и буквы и называть их обманом, случайностью, ничего не стоящей оболочкой. Нет, он будет разбирать и изучать их с любовью, букву за буквой. Я же, желавший прочесть книгу моего собственного существа, я ради какого-то заранее предположенного смысла смотрел с пренебрежением на знаки и буквы; я называл мир явлений призрачным, называл свой глаза, свой язык – случайными, лишенными всякой ценности явлениями. Нет, теперь всему этому конец! Я проснулся. Я в самом деле проснулся. Я как будто сегодня только родился.
Но дойдя до этого пункта в своих размышлениях, Сиддхартха внезапно остановился, словно увидел под ногами змею.
Ибо внезапно ему стало ясно еще одно: раз он действительно как бы проснулся или родился вновь, то должен начинать жизнь сызнова, начинать ее с самого начала. Когда в это самое утро он покидал рощу Джетавану, рощу Возвышенного, уже наполовину проснувшийся, уже по пути к самому себе, то у него было намерение – и оно казалось ему таким естественным, само собой понятным – вернуться на родину к своему отцу. Но теперь, в ту самую минуту, когда он остановился, словно увидав на дороге змею, в нем проснулось и сознание: «Да ведь я уже не тот, чем был. Я уже не аскет, не жрец, не брахман. Что же я стану делать дома, у отца? Изучать священные книги? Приносить жертвы? Упражняться в самоуглублении? Да ведь с этим всем уже покончено, всего этого уже не будет на моем пути».
Словно окаменев, стоял Сиддхартха на одном месте. На миг сердце его остановилось; он почувствовал, как оно, словно маленькая птичка или зверек, похолодело и сжалось в груди, при мысли о том, до чего он одинок. В течение многих лет он жил без родины и не чувствовал этого. Теперь он почувствовал. Все mb. время, как бы он ни отрешался от самого себя, он оставался сыном своего отца, оставался брахманом, человеком высокого звания, ученым. Теперь же он был только Сиддхартхой, правда, проснувшимся, но ничем более. Он глубоко перевел дух и вздрогнул от холода. Никто не был так одинок, как он. Всякий человек благородного звания, всякий ремесленник принадлежал к своему сословию, находил у таких же, как он, благородных или ремесленников, убежище, делил их жизнь, говорил их языком. Не было такого брахмана, который бы не причислял себя к брахманам, не жил в их обществе, – не было такого аскета, который не нашел бы прибежища в среде саман. Даже наиболее уединившийся от людей лесной отшельник не бывает совершенно одинок; и он имеет общение с подобными ему, и он принадлежит к известному классу, заменяющему ему родину. Говинда стал мо нахом, и тысячи монахов стали его братьями; они носили такое же, как он, платье; имели такую же, как он, веру; говорили таким же, как он, языком. Но он, Сиддхартха, кому он близок? Чью жизнь будет он разделять? С кем у него общий язык?
Из этого мгновения, когда окружающий мир как бы растаял и отошел от него, когда он стоял одинокий, как звезда на небе, – из этого мига душевного холода и упадка духа Сиддхартха вынырнул с резче выраженным, чем раньше, крепче сжавшимся Я. Это был последний – он чувствовал это – трепет пробуждения, последняя судорога рождения. Вслед за этим он снова двинулся в путь и зашагал быстро и нетерпеливо – но не домой, не к отцу, не к старой жизни...
КАМАЛА
С каждым шагом на своем пути Сиддхартха узнавал что-нибудь новое – ибо мир принял теперь в его глазах совсем иной вид, и все в нем очаровывало его сердце. Он видел, как солнце вставало над покрытыми лесом горами и опускалось за пальмами отдаленного морского берега. Ночью он видел на небе стройное движение звезд и серповидный месяц, плывший, как ладья, по синеве неба. Видел деревья, звезды, животных, облака, радуги, скалы, травы, цветы, ручьи и реки, видел, как сверкала на кустах утренняя роса, как синели и белели отдаленные высокие горы. Птицы распевали, пчелы жужжали, ветер колыхал серебристые рисовые поля. Все это, со всем своим многообразием и пестротой, существовало всегда. И раньше светили солнце и луна, шумели реки и жужжали пчелы. Но раньше все это было для Сиддхартхи лишь мимолетным и обманчивым видением, мелькавшей перед его глазами завесой, на которую надо смотреть с недове рием, которая на то и существует, чтобы быть сорванной и уничтоженной мышлением, так как она не была сущностью, так как сущность пребывала по ту сторону доступного, зримого, видимого. Теперь же его раскрывшиеся глаза останавливались на всем, что лежало по эту сторону; они видели и познавали видимое, искали родины в этом мире, не искали сущности вещей, не стремились в потусторонний мир. И как прекрасен мир, когда глядишь на него таким образом – так просто, так по-детски, без всяких исканий! Прекрасны месяц и звезды, прекрасны ручьи и берега, леса и утесы, козы и золотые жуки, цветы и бабочки. Как славно, как чудесно ходить по свету, с детской ясностью и бодростью во взгляде, с душой, раскрытой для всего близкого, чуждой недоверия! Не так палило теперь солнце голову, иначе прохлаждала лесная тень, иной вкус имели вода в ручье и цистерне, бананы и дыни. Короткими казались дни и ночи; каждый час быстро мелькал, словно парус на море, а под парусом плыло судно, наполненное сокровищами, наполненное радостью. Сидд хартха видел целое племя обезьян, куда-то перебиравшееся под высоким сводом леса, по самым верхним ветвям, слышал их дикое похотливое пение. Сиддхартха видел, как баран преследует овцу и овладевает ею. Он видел, как в поросшем тростником озере охотится терзаемая вечерним голодом щука, как в страхе убегает от нее молодая рыба, выскакивая из воды, сверкая на воздухе чешуей. Силой и упорной страстью веяло от быстро расходившихся кругов, поднятых на воде стремительным преследованием охотника. Все это всегда было, да он-то ничего не замечал – он был слишком далек от всего этого. Но теперь его интересовало все, что его окружало, он сам был частицей окружающего мира. Через его глаза проносились и свет, и тень, месяц и звезды проходили через его сердце.
Дорогой Сиддхартха припоминал все то, что пережил в саду Джетавана; ученье, которое он слышал там, божественного Будду, прощание с Говиндой, разговор с Возвышенным. Вспоминалось ему каждое слово, сказанное им Будде, и с изумлением он заметил, что высказывал тогда мысли, которых, в сущности, еще не сознавал хорошенько. Ведь он сказал Гаутаме, что его, Будды, сокровище и тайна не в учении, а в том невыразимом и непередаваемом словами, что им когда-то пережито было в минуту просветления. Но ведь он затем именно и идет теперь в мир, чтобы пережить подобное же самому; да он уже и сейчас начал переживать это. Самого себя он должен теперь переживать. Правда, давно уже он знал, что его Я – есть Атман, что оно той же вечной субстанции, как и Брахма. Но никогда на самом деле он не находил этого Я, потому что хотел уловить его в сеть мысли. Если, бесспорно, не тело было этим Я, и не игра чувств, то им не были также ни мысль, ни ум, ни заимствованная от других мудрость, ни таким же путем приобретенное искусство выводить заключения, ткать из продуманного новые мысли. Нет, и мир мыслей принадлежит еще потустороннему, и нет никакой пользы убивать случайное «Я» чувств, чтобы взамен усиленно питать случайное «Я» мыслей и приобретаемого от других знания. И то, и другое – как мысли, так и чувства – прекрасные вещи, за которыми одинаково скрывается истинный смысл всего. И к тем, и к другим надо прислушиваться, играть ими, ничего в них не следует ни презирать, ни переоценивать, а во всем подслушивать звучащие в глубине тайные голоса. И он решил вперед стремиться лишь к тому, что внушал его внутренний голос, задерживаться там, где советовал его голос. Почему Гаутама когда-то, в тот великий час, сел именно под деревом Бо, где его осенило откровение? Потому что он услышал голос – в его собственном сердце раздался этот голос – повелевавший ему искать отдыха под этим деревом. И он не отдал предпочтения умерщвлению плоти, жертвоприношениям, омовениям или молитвам, не предпочел еду и питье, сон и грезы – он послушался голоса. Так именно повиноваться – не приказу жизни, а внутреннему голосу, быть всегда готовым идти на его призыв – вот что хорошо и необходимо; ничто иное не является необходимым.
Ночью, когда он спал в соломенной хижине, принадлежавшей перевозчику через реку, Сиддхартхе приснился сон: перед ним стоял Говинда, в желтом одеянии аскета. Лицо Говинды было печально. Печально он спросил: «Зачем ты покинул меня?» Тогда он обнял Говинду, обхватил его руками, но когда он прижал его к груди и поцеловал, то почувствовал, что перед ним не Говинда, а женщина. Из платья этой женщины выставлялась наружу полная грудь, а он, Сиддхартха, лежал у этой груди и пил. Сладко и крепко было молоко из этой груди. От него исходили ароматы мужчины и женщины, солнца и леса, животных и цветов, аромат всевозможных плодов, всяческих наслаждений. Оно опьяняло, дурманило. Когда Сиддхартха проснулся, через дверь хижины видно было поблескивание бледной реки, а из лесу громко и звучно доносился призыв совы. Как только занялся день, Сиддхартха попросил хозяина-перевозчика переправить его на другой берег. Тот перевез его через реку на своем бамбуковом плоту.
Красным светом мерцала широкая река на утреннем солнце.
– Прекрасная река! – заметил Сиддхартха своему спутнику.
– Да, – сказал перевозчик, – это прекрасная река, я люблю ее больше всего. Часто я прислушиваюсь к ней, часто заглядываю ей в очи, и всякий раз чему-нибудь научаюсь от нее. Многому можно научиться у реки.
– Благодарю тебя, милостивец, – сказал Сиддхартха, выйдя на берег. – Мне нечем заплатить тебе за гостеприимство и переправу. Я бездомный скиталец. Я сын брахмана и самана.
– Я и сам догадался, кто ты, – сказал перевозчик, – и не ждал от тебя ни платы, ни иного вознаграждения. Ты оплатишь мне в другой раз.
– Ты думаешь? – весело спросил Сиддхартха.
– Уверен. Вот еще одно, что я узнал от реки: все возвращаются. И ты, самана, вернешься сюда. А теперь прощай. Да будет твоя дружба мне наградой. Вспоминай меня всегда, когда будешь приносить жертвы богам.
С улыбкой они попрощались друг с другом. С радостным чувством Сиддхартха думал о дружбе и приветливости пере возчика. «Он совсем как Говинда, – думал Сиддхартха, улыбаясь. Все, кого я ни встречаю на своем пути, похожи на Говинду. Все благодарны, хотя сами имеют право на благодарность. Все почтительны, все готовы стать друзьями, охотно повинуются и мало думают. Похожи на детей люди!»
Около полудня он пришел в какую-то деревню. На улице, у глиняных мазанок, возилась детвора. Они играли зернышками тыкв и раковинами, кричали и дрались, но при виде чужого саманы в испуге разбежались. В конце деревни дорогу пересекал ручей, а на берегу ручья стояла на коленях молодая женщина и стирала. Когда Сиддхартха приветствовал ее, она подняла голову и с улыбкой взглянула на него, причем он заметил, как блеснули белки ее глаз. Он крикнул ей обычное приветствие странствующих монахов и спросил, как далеко еще до большого города. Тогда она поднялась с места и подошла к нему. Ее влажные губы красиво алели на молодом лице. Она стала обмениваться с ним шутками, спросила, поел ли он и правда ли, что саманы проводят ночи в лесу одни и не могут иметь при себе женщин. При этом она опустила свою левую ногу на его правую и сделал такое дви жение, какое делает женщина, приглашающая мужчину к любовному наслаждению. Сиддхартха почувствовал, как закипает в нем кровь, и так как в эту минуту ему вспомнился сон, то он смело наклонился к женщине и коснулся губами темного соска на ее груди. А когда он поднял глаза, то на ее улыбающемся лице прочел желание, а в сузившихся глазах страстную мольбу.
И Сиддхартхой овладел прилив вожделения. Но так как он ни разу еще не коснулся женщины, то с минуту помедлил, хотя руки его уже протягивались, чтобы охватить ее. И в эту-то минуту он с содроганием услышал внутренний голос, и голос этот сказал: «Нет». И тотчас же улыбающееся лицо молодой женщины утратило для него все свое очарование, и он увидел лишь влажный взор охваченной вожделением самки. Ласково потрепал он ее по щеке, повернулся и проворно скрылся из глаз разочарованной женщины в бамбуковой роще.
В тот же день, еще до наступления вечера, он добрался до большого города, чему был очень рад, так как теперь его тянуло в общество людей, уже много времени прожил он в лесах, и крытая соломой хижина перевозчика была первым за все это долгое время кровом, под которым он проводил ночь. Перед самым городом, у обнесенной красивой оградой рощи, путнику попалось навстречу маленькое шествие из нагруженных корзинами слуг и прислужниц. Среди них в разукрашенных носилках, несомых четырьмя слугами, сидела на красных подушках под пестрым паланкином женщина – их госпожа Сиддхартха остановился у входа в рощу и глядел на шествие – видел слуг, служанок, корзины, видел паланкин и сидевшую под ним женщину. Под высокой причес кой черных волос он увидел очень светлое, очень нежное, очень умное лицо, ярко-красный, как только что вскрытая смоква, рот, выхоленные и нарисованные дугой брови, темные глаза, умные и зоркие, светлую длинную шею, выступавшую из золотисто-зеленой верхней одежды, спокойно лежавшие светлые руки, длинные и узкие, с широкими золотыми обручами на сгибах.