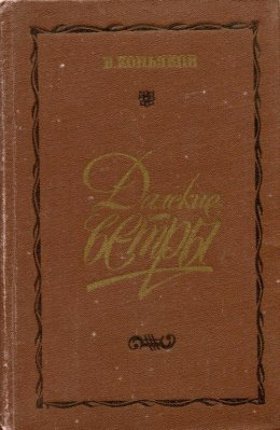Эти мысли возвращают старика к себе. Он лежит, не открывая глаз, и не знает, что вспомнить, чтобы почуять опять смутное движение радости. Мимо печки прошла сноха.
И вдруг позабытым чувством встал перед ним огород, черемуха над водой и голые ноги на мостике. Прасковья Ваганова полощет рушник в логу. В рубашке с короткими рукавами, заправленной в холщовую юбку, она будто не стирает белье, а нежит босые ноги на мокрой доске, разогретой солнцем, и качается в колыхающихся кругах воды.
Вернулось далекое утро, и ожила его память. Старик больше ничего не хотел знать, только это воспоминание. И ничего не было на свете лучше него — оно останавливало дыхание, как в давние годы, высокое и светлое, манило и не принимало упрека.
Старик полежал растревоженный, сел, свесив ноги, и, улыбаясь, покачал головой. Он вспомнил, как прошлый год осенью среди улицы перед конторой подрались они, пьяные, с Ефимом — мужем Прасковьи. В грязи возились — народу на смех. Их разняли…
— Сдурели старики… Что делите?..
Делите… Ефим все помнил… Всю жизнь… Уехал теперь с Прасковьей жить к сыну.
И Прасковья помнила… Только этого старик не знал… Когда уже собралась Прасковья уезжать, Наталья Мысина, подружка ее, провожать приходила. В темноте сидели, вспоминали все: и как в девках бегали, как в колхозе работали, войну переживали.
— И куда еду, — удивлялась Прасковья. — Дожить и… умереть бы в своей деревне. Даже земля здесь родная. Будто ее руками всю перебрала, для себя готовила. Одна по двору хожу, у колодца постою. Избу продали… А не это мне жалко…
— Ефиму-то что говорила? Как он?
— И-и… Ему про такое сказать… — Прасковья взглядывает из-под платка, глаза ее оживают девчоночьей тайной, знакомой им обеим. Она поджимает губы, мелкие морщины сбегаются ко рту.
— Я ведь помню только год… когда в полынь к Сергею бегала.
Глухой и далекий шум в ушах. Мокрое дерево свай. Луга и утренняя деревня, убаюканная шумом, — пустили на Ине мельницу. Давно это было — лет пятьдесят прошло.
III
Сергей столярничал. Много их, туляков, приехало в эту сибирскую деревню из «Расеи».
В Лесновке было двенадцать дворов. Жили чалдоны в домах, обнесенных тесовыми заборами с двойными воротами — большими и маленькими, крытыми тесом. Потемневшие крыши напоминали о дождях и долгих зимах. Ворота молчаливы и невраждебны, пускали под себя переждать свалившийся ливень. Жили чалдоны в углу над озером, затененным кустами, а невидимая с горы, в тальниковых берегах, текла Иня. Снизу подбивала деревню черемуха по крутому косогору. Несла она прохладу, а с юга, с дневного солнца, подступили к деревне леса. И крытые тесом дома с небольшими окнами, и дощатые заборы среди зелени казались единым деревянным городом красивого темного цвета. Двенадцать домов — это и была деревня Лесновка — завязанный узел крепкой жизни.
С улицы не узнаешь, что там у чалдонов во дворах. Торчат наклоненные на крыши амбаров жерди или необработанные отростки трехрогих вил.
За огородами у чалдонов на солнечных склонах к согре — пасеки. В раздолье недальних лугов — табуны лошадей без пастухов. К вечеру табуны одни возвращаются в ограды.
Приехало российских много. Они не стали жаться в углу, а разбросались со своими землянками широко, захватывая нераспаханные земли. И на лугах нарезали наделы. Отсекается земля лоскутами, становится чужой. Не знают боязни российские, не знают страха перед глухим безлюдьем — широко утоляют жажду к земле. И чалдоны стали раздвигать свой узел, расставляя вехами на краях улиц добротные дома. Принесли приезжие люди свой непохожий мир — свой говор, свою одежду. И даже в огородах их растет незнакомая доселе всякая пустячность, чего никогда не ведывали чалдоны. И народишко приехал легкий, бедный, но неутомимый в работе.
Сергей с женой поселился на краю пологой горы, покрытой зимой снегами, а летом — огоньками такой яркой расцветки, что рядом с ними даже пламя костра покажется худосочным и бледным. Солнце нехотя спускалось к ним под косогор, и оставались огоньки в затененности, в непросыхающей росе. За ними начинался кочкарник и кустарниковым прибоем — согра.
Сергей долго не мог привыкнуть к этому тяжелому слову — согра. По весне согра покрывалась листвой не сразу. Над сизым настилом кустов — то сквозной накрап березок, то яркий цвет верб. Из сырого кочкарника набрала верба такую нежную охру. Сорвешь ее пухлую сережку, положишь в рот, чуть сдавишь, и вот уже освежит тебя сладковатая влага.
Долго согра пахнет половодьем и разогретой корой. Далеко раскинулась она — не пройдешь по ней, не измеришь.
Держась за качающиеся прутья ив, ступишь на зеленую голову кочки, а она, высокая и упругая, качнет тебя в сторону, и ты бежишь по кочкам обратно, как на зыбких ходулях.
Начал жизнь в Сибири Сергей с кола. Ничего не привез с собой из Малевки. Все, что удалось продать на старом месте, дало денег только на дорогу.
Всего имущества — у жены юбка с кофтой, а у него зипун из рыжего сукна, штаны да холщовая рубаха. А здесь уже своя землянка в три окна, рядом оградка плетеная под навесом и на утоптанной земле — верстак, стружки да столярный инструмент. Сергей возьмет из темного дерева фуганок, с усилием тронет его по доске, он сам потянет за собой руку, цепко снимая шелестящую стружку. Такого фуганка у Сергея никогда не было, и он любит примерять к его ручке ладонь, чтобы ощутить под ней тяжесть дерева.
Освежает тело прохлада от земли под навесом. Жена несет из-под горы воду на коромысле. Дуня маленькая, и ведра приваливают боками траву вдоль тропинки. Сергей смотрит в лицо жены, ловит ее взгляд, а в глазах готовая насмешка.
Дуня знает, что насмешка эта будет непутева, и заранее готовится сдерживать улыбку, не слышать Сергея, не отвечать. Она не умеет принимать его шутки, заливается стыдом, отворачивается. У нее расставлен шнурок на юбке, округлился живот — скоро будет у них второй ребенок.
Вот и все, что есть у Сергея, хотя живет он в Сибири уже шесть лет.
Не все так начинают… Соседи Вагановы построились большим двором. Двор обнесли тыном, обложили от задов высоким валом навоза. А у избы от соседей по тыну поленница дров, уже потемневшая на солнце. Поленница стала почти глухой, отбрасывает тень на нижнюю половину окон. Над двором Вагановых жаркими днями колышется маревом испарина от навоза, от обожженной солнцем соломы, щепы.
Вечером Прасковья Ваганова носит из-под горы воду — поит скотину. Коровы осторожно притрагиваются носами к воде, и при первом тяжелом вздохе вода медленно уходит до половины ведра, а второй вздох уже не полой — ведра малы, и лбы коров упираются в жестяные края, стараются их раздать.
Вагановы — Ефим с Прасковьей и свекор — на рассвете уезжают на стан, дома остается свекровь.
Вечером возвращаются на конях, машину-хлебокосилку ставят во двор, кидают на ночь коням зеленку. Ложатся рано. Ни огня в окнах широкой избы, ни стука. Хрустят зеленкой кони. Спускается вечер. И кажется, сумерки начинаются от дома Вагановых, сгущаются над их двором лоснящимися под холодным небом лошадьми, а потом растекаются по всей улице.
Ехали Вагановы с Сергеем из России в одном вагоне. Пили кипяток с черствым хлебом. Сумел неразговорчивый отец придержать при себе что-то, отложить из крестьянских доходов в России, и это «что-то» буйно стало разрастаться в Сибири. Вагановы на своей пашне работали молчком, исступленно — дорвались до земли.
Растеклась деревня Лесновка от узла на четыре улицы. Забелела среди березняка первыми срубами изб, запылила проселочной дорогой к разбросанным в отдалении станам. Вечерами поднималось с низины в деревню свежее дыхание согры.
Сергей ехал в Сибирь — думал о земле, а увидел, как туляки запахивают полосы, не зная границ, недобро загораясь глазами, — к земле остыл и даже в волости на себя надел не оформил. Взял пять пудов пшеницы, заработанных в найме, отвез в Кольчугино, накупил столярный инструмент. Долго, до самых сумерек не уходит из-под своего навеса.
Вагановы приедут с пашни, сгрузят пиленые дрова, сложат в поленницу — лес даровой, никто валить не запрещает, зайдут в избу и, не зажигая огня, затихнут.
Сергей смотрит на сумеречную избу Вагановых и не может унять досаду. Он не знает, отчего эта досада, долго сидит один и уже в темноте выходит на улицу. Улица глуха. Между амбарами — отделанные резьбой ворота, за ними тесовые, цвета полыни под рассеянной луной, крыши шатром. Улица крестовых домов. Ночью деревянная резьба под навесами крыш в тени, будто у луны уж и силы не хватает высветить все. Тень глуха. Изредка помаячит узор дорогим кружевом, как скупой чекан по серебру, и спрячется, не считаясь с твоим желанием видеть его.
Сергею кажется, и чалдоны сродни этим домам — недоступного характера, без заигрывания. Какой есть — таким меня и принимай. Недостойно перед людьми собой красоваться.
И не любит Сергей бывать в их домах. И окна в них большие, с богатыми разворотами наличников с улицы, а зайдешь в дом, солнце будто не может осветить их, ломается по углам, по ступенькам, ведущим за печками в подполья, и даже днем оно худосочно, оставляет полусумрак в кути.
Передние углы горницы заставлены медными иконами — одна на одной, с тусклым блеском позолоты и недобрыми глазами. Непрогретость омедненного воздуха тяжела, будто иконы дышат металлом.
А российские привезли с собой красивых богов. Голубых, под стеклом в глубоких ящичках. Фольговые цветы вокруг головок кротких женщин.
Недобры иконы. Неприветливы люди. А не упрекнешь. Многим женщинам работу дали. Девчонок сиротских няньками пристроили. К взрослым настороже, хотя присматриваются к делам малевских. Из огородов рассаду стали брать, переносить пестроту огородов российских баб на свои грядки, перенимать хозяйство чужаков.