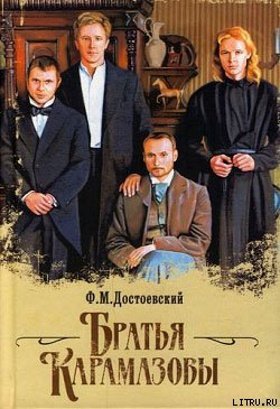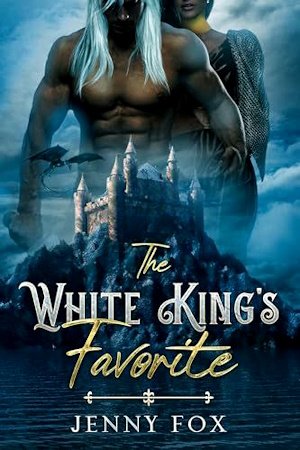– Ишь зашагал! – презрительно поглядела на него Грушенька. Митя забеспокоился, к тому же заметил, что пан на диване с раздражительным видом поглядывает на него.
– Пан, – крикнул Митя, – выпьем, пане! И с другим паном тоже: выпьем, панове! – Он мигом сдвинул три стакана и разлил в них шампанское.
– За Польшу, панове, пью за вашу Польшу, за польский край! – воскликнул Митя.
– Бардзо ми то мило, пане, выпием (это мне очень приятно, пане, выпьем), – важно и благосклонно проговорил пан на диване и взял свой стакан.
– И другой пан, как его, эй, ясневельможный, бери стакан! – хлопотал Митя.
– Пан Врублевский, – подсказал пан на диване.
Пан Врублевский, раскачиваясь, подошел к столу и стоя принял свой стакан.
– За Польшу, панове, ура! – прокричал Митя, подняв стакан.
Все трое выпили. Митя схватил бутылку и тотчас же налил опять три стакана.
– Теперь за Россию, панове, и побратаемся!
– Налей и нам, – сказала Грушенька, – за Россию и я хочу пить.
– И я, – сказал Калганов.
– Да и я бы тоже-с… за Россеюшку, старую бабусеньку, – подхихикнул Максимов.
– Все, все! – восклицал Митя. – Хозяин, еще бутылок!
Принесли все три оставшиеся бутылки из привезенных Митей. Митя разлил.
– За Россию, ура! – провозгласил он снова. Все, кроме панов, выпили, а Грушенька выпила разом весь свой стакан. Панове же и не дотронулись до своих.
– Как же вы, панове? – воскликнул Митя. – Так вы так-то?
Пан Врублевский взял стакан, поднял его и зычным голосом проговорил:
– За Россию в пределах до семьсот семьдесят второго года!
– Ото бардзо пенкне! (Вот так хорошо!) – крикнул другой пан, и оба разом осушили свои стаканы.
– Дурачье же вы, панове! – сорвалось вдруг у Мити.
– Па-не!! – прокричали оба пана с угрозою, наставившись на Митю, как петухи. Особенно вскипел пан Врублевский.
– Але не можно не мець слабосьци до своего краю? – возгласил он. (Разве можно не любить своей стороны?)
– Молчать! Не ссориться! Чтобы не было ссор! – крикнула повелительно Грушенька и стукнула ножкой об пол. Лицо ее загорелось, глаза засверкали. Только что выпитый стакан сказался. Митя страшно испугался.
– Панове, простите! Это я виноват, я не буду. Врублевский, пан Врублевский, я не буду!..
– Да молчи хоть ты-то, садись, экой глупый! – со злобною досадой огрызнулась на него Грушенька.
Все уселись, все примолкли, все смотрели друг на друга.
– Господа, всему я причиной! – начал опять Митя, ничего не понявший в возгласе Грушеньки. – Ну чего же мы сидим? Ну чем же нам заняться… чтобы было весело, опять весело?
– Ах, в самом деле ужасно невесело, – лениво промямлил Калганов.
– В банчик бы-с сыграть-с, как давеча… – хихикнул вдруг Максимов.
– Банк? Великолепно! – подхватил Митя, – если только панове…
– Пузьно, пане! – как бы нехотя отозвался пан на диване…
– То правда, – поддакнул и пан Врублевский.
– Пузьно? Это что такое пузьно? – спросила Грушенька.
– То значи поздно, пани, поздно, час поздний, – разъяснил пан на диване.
– И все-то им поздно, и все-то им нельзя! – почти взвизгнула в досаде Грушенька. – Сами скучные сидят, так и другим чтобы скучно было. Пред тобой, Митя, они все вот этак молчали и надо мной фуфырились…
– Богиня моя! – крикнул пан на диване, – цо мувишь, то сень стане. Видзен неласкен, и естем смутны. (Вижу нерасположение, оттого я и печальный.) Естем готув (я готов), пане, – докончил он, обращаясь к Мите.
– Начинай, пане! – подхватил Митя, выхватывая из кармана свои кредитки и выкладывая из них две сторублевых на стол.
– Я тебе много, пан, хочу проиграть. Бери карты, закладывай банк!
– Карты чтоб от хозяина, пане, – настойчиво и серьезно произнес маленький пан.