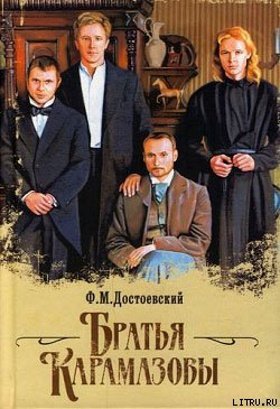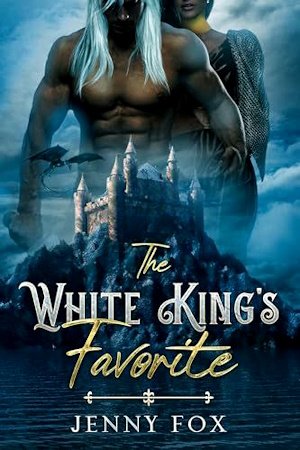– Да, ты виноватая! Ты главная преступница! Ты неистовая, ты развратная, ты главная виноватая, – завопил, грозя ей рукой, исправник, но тут уж его быстро и решительно уняли. Прокурор даже обхватил его руками.
– Это уж совсем беспорядок будет, Михаил Макарович, – вскричал он, – вы положительно мешаете следствию… дело портите… – почти задыхался он.
– Меры принять, меры принять, меры принять! – страшно закипятился и Николай Парфенович, – иначе положительно невозможно!..
– Вместе судите нас! – продолжала исступленно восклицать Грушенька, все еще на коленях. – Вместе казните нас, пойду с ним теперь хоть на смертную казнь!
– Груша, жизнь моя, кровь моя, святыня моя! – бросился подле нее на колени и Митя и крепко сжал ее в объятиях. – Не верьте ей, – кричал он, – не виновата она ни в чем, ни в какой крови и ни в чем!
Он помнил потом, что его оттащили от нее силой несколько человек, а что ее вдруг увели, и что опамятовался он уже сидя за столом. Подле и сзади него стояли люди с бляхами. Напротив него через стол на диване сидел Николай Парфенович, судебный следователь, и все уговаривал его отпить из стоявшего на столе стакана немного воды: «Это освежит вас, это вас успокоит, не бойтесь, не беспокойтесь», – прибавлял он чрезвычайно вежливо. Мите же вдруг, он помнил это, ужасно любопытны стали его большие перстни, один аметистовый, а другой какой-то ярко-желтый, прозрачный и такого прекрасного блеска. И долго еще он потом с удивлением вспоминал, что эти перстни привлекали его взгляд неотразимо даже во все время этих страшных часов допроса, так что он почему-то все не мог от них оторваться и их забыть, как совершенно неподходящую к его положению вещь. Налево, сбоку от Мити, на месте, где сидел в начале вечера Максимов, уселся теперь прокурор, а по правую руку Мити, на месте, где была тогда Грушенька, расположился один румяный молодой человек, в каком-то охотничьем как бы пиджаке, и весьма поношенном, пред которым очутилась чернильница и бумага. Оказалось, что это был письмоводитель следователя, которого привез тот с собою. Исправник же стоял теперь у окна, в другом конце комнаты, подле Калганова, который тоже уселся на стуле у того же окна.
– Выпейте воды! – мягко повторил в десятый раз следователь.
– Выпил, господа, выпил… но… что ж, господа, давите, казните, решайте судьбу! – воскликнул Митя со страшно неподвижным выпучившимся взглядом на следователя.
– Итак, вы положительно утверждаете, что в смерти отца вашего, Федора Павловича, вы не виновны? – мягко, но настойчиво спросил следователь.
– Не виновен! Виновен в другой крови, в крови другого старика, но не отца моего. И оплакиваю! Убил, убил старика, убил и поверг… Но тяжело отвечать за эту кровь другою кровью, страшною кровью, в которой не повинен… Страшное обвинение, господа, точно по лбу огорошили! Но кто же убил отца, кто же убил? Кто же мог убить, если не я? Чудо, нелепость, невозможность!..
– Да, вот кто мог убить… – начал было следователь, но прокурор Ипполит Кириллович (товарищ прокурора, но и мы будем его называть для краткости прокурором), переглянувшись со следователем, произнес, обращаясь к Мите:
– Вы напрасно беспокоитесь за старика слугу Григория Васильева. Узнайте, что он жив, очнулся и, несмотря на тяжкие побои, причиненные ему вами, по его и вашему теперь показанию, кажется, останется жив несомненно, по крайней мере по отзыву доктора.
– Жив? Так он жив! – завопил вдруг Митя, всплеснув руками. Все лицо его просияло. – Господи, благодарю тебя за величайшее чудо, содеянное тобою мне, грешному и злодею, по молитве моей!.. Да, да, это по молитве моей, я молился всю ночь!.. – и он три раза перекрестился. Он почти задыхался.
– Так вот от этого-то самого Григория мы и получили столь значительные показания на ваш счет, что… – стал было продолжать прокурор, но Митя вдруг вскочил со стула.
– Одну минуту, господа, ради Бога, одну лишь минутку; я сбегаю к ней…
– Позвольте! В эту минуту никак нельзя! – даже чуть не взвизгнул Николай Парфенович и тоже вскочил на ноги. Митю обхватили люди с бляхами на груди, впрочем он и сам сел на стул…
– Господа, как жаль! Я хотел к ней на одно лишь мгновение… хотел возвестить ей, что смыта, исчезла эта кровь, которая всю ночь сосала мне сердце, и что я уже не убийца! Господа, ведь она невеста моя! – восторженно и благоговейно проговорил он вдруг, обводя всех глазами. – О, благодарю вас, господа! О, как вы возродили, как вы воскресили меня в одно мгновение!.. Этот старик – ведь он носил меня на руках, господа, мыл меня в корыте, когда меня трехлетнего ребенка все покинули, был отцом родным!..
– Итак, вы… – начал было следователь.
– Позвольте, господа, позвольте еще одну минутку, – прервал Митя, поставив оба локтя на стол и закрыв лицо ладонями, – дайте же чуточку сообразиться, дайте вздохнуть, господа. Все это ужасно потрясает, ужасно, не барабанная же шкура человек, господа!
– Вы бы опять водицы… – пролепетал Николай Парфенович.
Митя отнял от лица руки и рассмеялся. Взгляд его был бодр, он весь как бы изменился в одно мгновение. Изменился и весь тон его: это сидел уже опять равный всем этим людям человек, всем этим прежним знакомым его, вот точно так, как если бы все они сошлись вчера, когда еще ничего не случилось, где-нибудь в светском обществе. Заметим, однако, кстати, что у исправника Митя, в начале его прибытия к нам, был принят радушно, но потом, в последний месяц особенно, Митя почти не посещал его, а исправник, встречаясь с ним, на улице например, сильно хмурился и только лишь из вежливости отдавал поклон, что очень хорошо заприметил Митя. С прокурором был знаком еще отдаленнее, но к супруге прокурора, нервной и фантастической даме, иногда хаживал с самыми почтительными, однако, визитами, и даже сам не совсем понимая, зачем к ней ходит, и она всегда ласково его принимала, почему-то интересуясь им до самого последнего времени. Со следователем же познакомиться еще не успел, но, однако, встречал и его и даже говорил с ним раз или два, оба раза о женском поле.
– Вы, Николай Парфеныч, искуснейший, как я вижу, следователь, – весело рассмеялся вдруг Митя, – но я вам теперь сам помогу. О господа, я воскрешен… и не претендуйте на меня, что я так запросто и так прямо к вам обращаюсь. К тому же я немного пьян, я это вам скажу откровенно. Я, кажется, имел честь… честь и удовольствие встречать вас, Николай Парфеныч, у родственника моего Миусова… Господа, господа, я не претендую на равенство, я ведь понимаю же, кто я такой теперь пред вами сижу. На мне лежит… если только показания на меня дал Григорий… то лежит – о, конечно, уж лежит – страшное подозрение! Ужас, ужас – я ведь понимаю же это! Но к делу, господа, я готов, и мы это в один миг теперь и покончим, потому что, послушайте, послушайте, господа. Ведь если я знаю, что я не виновен, то уж, конечно, в один миг покончим! Так ли? Так ли?
Митя говорил скоро и много, нервно и экспансивно и как бы решительно принимая своих слушателей за лучших друзей своих.
– Итак, мы пока запишем, что вы отвергаете взводимое на вас обвинение радикально, – внушительно проговорил Николай Парфенович и, повернувшись к писарю, вполголоса продиктовал ему, что надо записать.
– Записывать? Вы хотите это записывать? Что ж, записывайте, я согласен, даю полное мое согласие, господа… Только видите… Стойте, стойте, запишите так: «В буйстве он виновен, в тяжких побоях, нанесенных бедному старику, виновен». Ну там еще про себя, внутри, в глубине сердца своего виновен – но это уж не надо писать, – повернулся он вдруг к писарю, – это уже моя частная жизнь, господа, это уже вас не касается, эти глубины-то сердца то есть… Но в убийстве старика отца – не виновен! Это дикая мысль! Это совершенно дикая мысль!.. Я вам докажу, и вы убедитесь мгновенно. Вы будете смеяться, господа, сами будете хохотать над вашим подозрением!..
– Успокойтесь, Дмитрий Федорович, – напомнил следователь, как бы, видимо, желая победить исступленного своим спокойствием. – Прежде чем будем продолжать допрос, я бы желал, если вы только согласитесь ответить, слышать от вас подтверждение того факта, что, кажется, вы не любили покойного Федора Павловича, были с ним в какой-то постоянной ссоре… Здесь, по крайней мере, четверть часа назад, вы, кажется, изволили произнести, что даже хотели убить его: «Не убил, – воскликнули вы, – но хотел убить!»
– Я это воскликнул? Ох, это может быть, господа! Да, к несчастию, я хотел убить его, много раз хотел… к несчастию, к несчастию!
– Хотели. Не согласитесь ли вы объяснить, какие, собственно, принципы руководствовали вас в такой ненависти к личности вашего родителя?
– Что ж объяснять, господа! – угрюмо вскинул плечами Митя, потупясь. – Я ведь не скрывал моих чувств, весь город об этом знает – знают все в трактире. Еще недавно в монастыре заявил в келье старца Зосимы… В тот же день, вечером, бил и чуть не убил отца и поклялся, что опять приду и убью, при свидетелях… О, тысяча свидетелей! Весь месяц кричал, все свидетели!.. Факт налицо, факт говорит, кричит, но – чувства, господа, чувства, это уж другое. Видите, господа, – нахмурился Митя, – мне кажется, что про чувства вы не имеете права меня спрашивать. Вы хоть и облечены, я понимаю это, но это дело мое, мое внутреннее дело, интимное, но… так как я уж не скрывал моих чувств прежде… в трактире, например, и говорил всем и каждому, то… то не сделаю и теперь из этого тайны. Видите, господа, я ведь понимаю, что в этом случае на меня улики страшные: всем говорил, что его убью, а вдруг его и убили: как же не я в таком случае? Ха-ха! Я вас извиняю, господа, вполне извиняю. Я ведь и сам поражен до эпидермы, потому что кто ж его убил, наконец, в таком случае, если не я? Ведь не правда ли? Если не я, так кто же, кто же? Господа, – вдруг воскликнул он, – я хочу знать, я даже требую от вас, господа: где он убит? Как он убит, чем и как? Скажите мне, – быстро спросил он, обводя прокурора и следователя глазами.
– Мы нашли его лежащим на полу, навзничь, в своем кабинете, с проломленною головой, – проговорил прокурор.
– Страшно это, господа! – вздрогнул вдруг Митя и, облокотившись на стол, закрыл лицо правою рукой.
– Мы будем продолжать, – прервал Николай Парфенович. – Итак, что же тогда руководило вас в ваших чувствах ненависти? Вы, кажется, заявляли публично, что чувство ревности?
– Ну да, ревность, и не одна только ревность.
– Споры из-за денег?
– Ну да, и из-за денег.
– Кажется, спор был в трех тысячах, будто бы недоданных вам по наследству.
– Какое трех! Больше, больше, – вскинулся Митя, – больше шести, больше десяти может быть. Я всем говорил, всем кричал! Но я решился, уж так и быть, помириться на трех тысячах. Мне до зарезу нужны были эти три тысячи… так что тот пакет с тремя тысячами, который, я знал, у него под подушкой, приготовленный для Грушеньки, я считал решительно как бы у меня украденным, вот что, господа, считал своим, все равно как моею собственностью…
Прокурор значительно переглянулся со следователем и успел незаметно мигнуть ему.
– Мы к этому предмету еще возвратимся, – проговорил тотчас следователь, – вы же позволите нам теперь отметить и записать именно этот пунктик: что вы считали эти деньги, в том конверте, как бы за свою собственность.
– Пишите, господа, я ведь понимаю же, что это опять-таки на меня улика, но я не боюсь улик и сам говорю на себя. Слышите, сам! Видите, господа, вы, кажется, принимаете меня совсем за иного человека, чем я есть, – прибавил он вдруг мрачно и грустно. – С вами говорит благородный человек, благороднейшее лицо, главное, – этого не упускайте из виду – человек, наделавший бездну подлостей, но всегда бывший и остававшийся благороднейшим существом, как существо, внутри, в глубине, ну, одним словом, я не умею выразиться… Именно тем-то и мучился всю жизнь, что жаждал благородства, был, так сказать, страдальцем благородства и искателем его с фонарем, с Диогеновым фонарем, а между тем всю жизнь делал одни только пакости, как и все мы, господа… то есть, как я один, господа, не все, а я один, я ошибся, один, один!.. Господа, у меня голова болит, – страдальчески поморщился он, – видите, господа, мне не нравилась его наружность, что-то бесчестное, похвальба и попирание всякой святыни, насмешка и безверие, гадко, гадко! Но теперь, когда уж он умер, я думаю иначе.