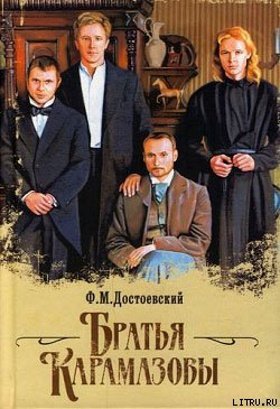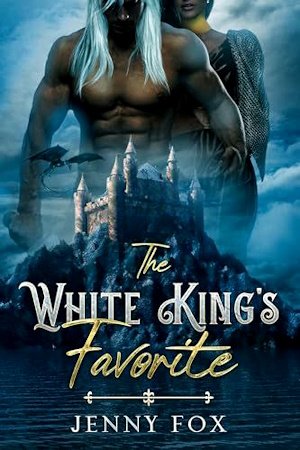– Позвольте же повторить вопрос в таком случае, – как-то подползая, продолжал Николай Парфенович. – Откуда же вы могли разом достать такую сумму, когда, по собственному признанию вашему, еще в пять часов того дня…
– Нуждался в десяти рублях и заложил пистолеты у Перхотина, потом ходил к Хохлаковой за тремя тысячами, а та не дала, и проч., и всякая эта всячина, – резко прервал Митя, – да, вот, господа, нуждался, а тут вдруг тысячи появились, а? Знаете, господа, ведь вы оба теперь трусите: а что как не скажет, откуда взял? Так и есть: не скажу, господа, угадали, не узнаете, – отчеканил вдруг Митя с чрезвычайною решимостью. Следователи капельку помолчали.
– Поймите, господин Карамазов, что нам это знать существенно необходимо, – тихо и смиренно проговорил Николай Парфенович.
– Понимаю, а все-таки не скажу.
Ввязался и прокурор и опять напомнил, что допрашиваемый, конечно, может не отвечать на вопросы, если считает для себя это выгоднейшим и т. д., но в видах того, какой ущерб подозреваемый может сам нанести себе своим умолчанием и особенно ввиду вопросов такой важности, которая…
– И так далее, господа, и так далее! Довольно, слышал эту рацею и прежде! – опять оборвал Митя, – сам понимаю, какой важности дело и что тут самый существенный пункт, а все-таки не скажу.
– Ведь нам что-с, это ведь не наше дело, а ваше, сами себе повредите, – нервно заметил Николай Парфенович.
– Видите, господа, шутки в сторону, – вскинулся глазами Митя и твердо посмотрел на них обоих. – Я с самого начала уже предчувствовал, что мы на этом пункте сшибемся лбами. Но вначале, когда я давеча начал показывать, все это было в дальнейшем тумане, все плавало, и я даже был так прост, что начал с предложения «взаимного между нами доверия». Теперь сам вижу, что доверия этого и быть не могло, потому что все же бы мы пришли к этому проклятому забору! Ну, вот и пришли! Нельзя, и кончено! Впрочем, я ведь вас не виню, нельзя же и вам мне верить на слово, я ведь это понимаю!
Он мрачно замолчал.
– А не могли ли бы вы, не нарушая нисколько вашей решимости умолчать о главнейшем, не могли ли бы вы в то же время дать нам хоть малейший намек на то: какие именно столь сильные мотивы могли бы привести вас к умолчанию в столь опасный для вас момент настоящих показаний?
Митя грустно и как-то задумчиво усмехнулся.
– Я гораздо добрее, чем вы думаете, господа, я вам сообщу почему, и дам этот намек, хотя вы того и не стоите. Потому, господа, умалчиваю, что тут для меня позор. В ответе на вопрос: откуда взял эти деньги, заключен для меня такой позор, с которым не могло бы сравняться даже и убийство, и ограбление отца, если б я его убил и ограбил. Вот почему не могу говорить. От позора не могу. Что вы это, господа, записывать хотите?
– Да, мы запишем, – пролепетал Николай Парфенович.
– Вам бы не следовало это записывать, про «позор»-то. Это я вам по доброте только души показал, а мог и не показывать, я вам, так сказать, подарил, а вы сейчас лыко в строку. Ну пишите, пишите что хотите, – презрительно и брезгливо заключил он, – не боюсь я вас и… горжусь пред вами.
– А не скажете ли вы, какого бы рода этот позор? – пролепетал было Николай Парфенович.
Прокурор ужасно наморщился.
– Ни-ни, c’est fini,[28] не трудитесь. Да и не стоит мараться. Уж и так об вас замарался. Не стоите вы, ни вы и никто… Довольно, господа, обрываю.
Проговорено было слишком решительно. Николай Парфенович перестал настаивать, но из взглядов Ипполита Кирилловича мигом успел усмотреть, что тот еще не теряет надежды.
– Не можете ли по крайней мере объявить: какой величины была сумма в руках ваших, когда вы вошли с ней к господину Перхотину, то есть сколько именно рублей?
– Не могу и этого объявить.
– Господину Перхотину вы, кажется, заявляли о трех тысячах, будто бы полученных вами от госпожи Хохлаковой?
– Может быть, и заявил. Довольно, господа, не скажу сколько.
– Потрудитесь в таком случае описать, как вы сюда поехали и все, что вы сделали, сюда приехав?
– Ох, об этом спросите всех здешних. А впрочем, пожалуй, и я расскажу.
Он рассказал, но мы уже приводить рассказа не будем. Рассказывал сухо, бегло. О восторгах любви своей не говорил вовсе. Рассказал, однако, как решимость застрелиться в нем прошла, «ввиду новых фактов». Он рассказывал, не мотивируя, не вдаваясь в подробности. Да и следователи не очень его на этот раз беспокоили: ясно было, что и для них не в том состоит теперь главный пункт.
– Мы это все проверим, ко всему еще возвратимся при допросе свидетелей, который будет, конечно, происходить в вашем присутствии, – заключил допрос Николай Парфенович. – Теперь же позвольте обратиться к вам с просьбою выложить сюда на стол все ваши вещи, находящиеся при вас, а главное, все деньги, какие только теперь имеете.
– Деньги, господа? Извольте, понимаю, что надо. Удивляюсь даже, как раньше не полюбопытствовали. Правда, никуда бы не ушел, на виду сижу. Ну, вот они, мои деньги, вот считайте, берите, все, кажется.
Он вынул все из карманов, даже мелочь, два двугривенных вытащил из бокового жилетного кармана. Сосчитали деньги, оказалось восемьсот тридцать шесть рублей сорок копеек.
– И это все? – спросил следователь.
– Все.
– Вы изволили сказать сейчас, делая показания ваши, что в лавке Плотниковых оставили триста рублей, Перхотину дали десять, ямщику двадцать, здесь проиграли двести, потом…
Николай Парфенович пересчитал все. Митя помог охотно. Припомнили и включили в счет всякую копейку. Николай Парфенович бегло свел итог.
– С этими восьмьюстами было, стало быть, всего у вас первоначально около полутора тысяч?
– Стало быть, – отрезал Митя.
– Как же все утверждают, что было гораздо более?
– Пусть утверждают.
– Да и вы сами утверждали.
– И я сам утверждал.
– Мы еще проверим все это свидетельствами еще не спрошенных других лиц; о деньгах ваших не беспокойтесь, они сохранятся где следует и окажутся к вашим услугам по окончании всего… начавшегося… если окажется или, так сказать, докажется, что вы имеете на них неоспоримое право. Ну-с, а теперь…
Николай Парфенович вдруг встал и твердо объявил Мите, что «принужден и должен» учинить самый подробный и точнейший осмотр «как платья вашего, так и всего…».