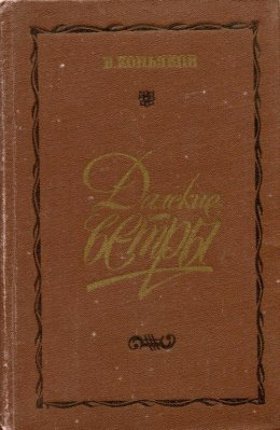— Ну мыкались… Мы ж не про то, а что люди выдумку потеряли. Вон Андрей что говорит… «Деревня грамотнее стала. К другой культуре пришла». Ну что… — он охотно согласился, вздохнул с тихой издевкой. — Молодежь много учится… Десять годов. Учится, чтобы убежать. А кто остался, так в его учебе толку нету. Пустая она для жизни. Ничего не тянет. Раньше меньше учились, а делать умели. Теперь это умение старикам ни к чему, попрятали все свое. А молодежь… Много знает, да не умеет. А то не хочет… Ищет готовое. Одежду готовую. Кино готовую. Жизнь готовую. Где бы им ее сделали, а они ее взяли. Вот и ездят, ищут. Из деревни бегут. А радио их уговаривает: «Езжайте! Молодцы, что одних стариков в деревне побросали».
У Андрея такая добродетельная сосредоточенность. Он что, согласен?
— Любопытно, — удивилась я. — У людей что же? Талант исчез?
— Не исчез… Только он живет, когда нужен.
— Сейчас не нужен? Вы так красиво о своей деревне говорили. Почему же тогда людям красота была нужна, а сейчас эта потребность в красоте погасла? Люди грамотнее стали… Значит, они больше знают, им больше и надо? Как по-вашему?
— Надо больше. Я же и говорю. Получить готовое. Сядут вечером у телевизоров — вот тебе и будни и праздники.
«Ведь и я так думала».
— Что же? Значит, в деревне праздников нет? — спросила я, вдруг осознавая, что спрашиваю о том же, что сама утверждала. Помнит или нет Андрей тот разговор, что был у нас, когда мы возвращались из клуба?
— Праздников? В два раза больше. И советских… и старинных.
— Праздники-то разные… — сказал Андрей и сдержанно заулыбался.
— Одинаковые… Сравнялись. И на советский пьют, и на старинный.
— Одинаково?
— Я же говорю… Раньше каждый сам выдумывал. И праздники тоже. Кто как поинтересней. Масленица если… Ночью вся деревня на улицу выйдет. Бабы снаряду наденут — кто кого лучше придумал, чтоб показать, сани большие на гору притащат и… что тут делается… И стар и мал… А днем бега устроят. Чей конь возьмет. Опять вся деревня смотрит. А раз смотрит, значит, и дугу и коня снарядить надо.
На паску яйцами крашеными бьются. Христосуются. И опять же разговору — у кого краска ярче да чьи рушники лучше на божницах. Все выдумывали…
Сейчас завклуб за всех один праздники выдумывает. Ему за это деньги платят. А он только для девок на баяне пилит. А все… Подошел май… В клубе посидят на торжественной части и домой — водку пить. В октябрьский обратно торжественное в клубе. На скамейках посидели, учителя про революцию послушали. А он уж про это в май рассказывал. Пошли домой и снова… Два дня пьяные. Самогон гнать сейчас есть из чего. Вот тебе — праздники. И советские, и старинные. Ото всех голова болит. Рассолом лечим.
Андрей рассмеялся, любовно рассматривая старика. Глаза его радовались, как у ребенка.
Дмитрий Алексеич наклонился к кисету, полуоткрыв беззубый рот, — он, должно быть, так улыбался. Воздух сушил его крепкий зуб.
— Куда вы свой инструмент сейчас дели, дядя Самош? — спросил Андрей, разглядывая деда. — Так его берегли? Меня чуть с вашим Петькой не излупили, когда мы фуганок иззубрили.
— На гвоздях вы его.
— Чем занимаетесь-то сейчас?
— В колхозе. То грабли сколачиваю, то стоговые вилы выстрогаю. Столярничать бросил. Улья когда…
— Тоже больше не выдумываете?
— Ни к чему…
— Про стариков-то вы хорошо поговорили. А в молодежи, выходит, ничего нет. Обидно это нам, дед…
Андрей разговаривал с ним снисходительно, подшучивая.
— Обижайтесь… Что сказал, то сказал. Хлипкая молодежь стала. Сырая. В руки можно брать. Как сомнешь, так и останется…
— Что же это с людьми произошло? И живут лучше, а все неинтересней становятся…
— Произошло?..
Самоша глядел на меня из-подо лба, изучал долго и сказал:
— Смекалка исчезла. Она ведь нужна не только как лучше посеять да побольше хлеба собрать, а и что-нибудь сделать. А это сделать — сейчас нет. От деревни только хлеб ждут. «Хлеб наш насущный…» А надо, чтобы люди талант свой не потеряли. Для меня главное, что я что-то лучше других знаю, умею. И это люди должны увидеть. Да… Получается у меня что-нибудь, я еще и сам не знаю, а меня уже за руку и в газету. А мне это нехорошо. Стыдно. А они это делают для себя. Себя обогнать. Вывернуться. Вот и научили людей ждать, когда их по плечу начальство похлопает.
А как на это другие посмотрят? Теперь не оценка людей важна… А ведь человек-то все для людей всегда делает. Чтобы его красоту увидели да душу его за ней.
Дмитрий Алексеич крякнул, бросил окурок в угол, долго и молча подкидывал уголь в печку.
Жаркий свет упал на старика, и рыжая борода, как загоревшаяся солома, засияла вокруг лица.
Андрей собирал на палитре эластичным ножом густо размешанную краску. Она скапливалась на лезвии шматками и блестела. Он вытирал нож о тряпку. Я почему-то вспомнила свою практику в семилетней школе. Деревня была большая. Особенно меня поразил там Дом культуры — белый, с четырьмя колоннами и рельефной лепниной на фронтоне — два скрещенных снопа. Меж битых кирпичей вокруг него прорастала трава. На шершавом цементе при входе маленькие девчонки в длинных пальто играли в «классики».
Перед началом сеанса немногочисленные зрители сидели вдоль стен фойе в глубоких, сбитых вместе стульях. Потолок фойе был высок, и оттого люди казались маленькими.
Молодежь, по праву участников самодеятельности, собиралась в обширной комнате у сцены. Там к ножке табуретки был пришлепан окурок. У пианино, где подразумевался глазок замка, зияло пустое дупло. Взрослый мальчишка откинул его обшарпанную крышку и с шалопайской развязностью заколотил по клавишам. Пианино расстроенно гудело.
Фильмы в той деревне шли три раза в неделю, а огромный Дом культуры казался пустым, и тянуло от его стен цементным холодом.
Палитру Андрей скоблил сначала медленно, как бы раздумывая, потом с резким усилием стал нажимать на нож, будто руки его наливались силой. В такт движению у него вздувались желваки на скулах.
Он вытер краску, бросил в этюдник нож с круглой ручкой, встал и, будто только увидел, посмотрел на меня изучающе.
«Странный какой здесь народ. И этот тоже… Словно что-то такое знают только они одни».