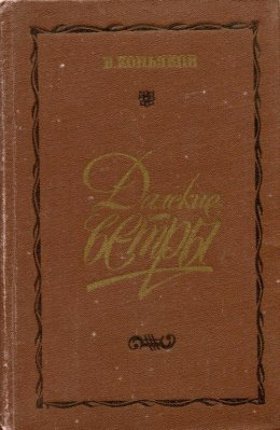«Не пришли и не пришли…»
Мне хотелось ни о чем не думать. Сидеть и молчать. Если бы я умел плакать… Прости меня, Павля.
Я разделся, бросил телогрейку на пол, повернул к себе портрет. От него пахло устоявшейся теплой краской. Из холодного мерцания смотрел на меня Дмитрий Алексеевич. Я равнодушно разглядывал голубое пламя на подбородке и его глаза со слабым отражением печи.
И вдруг я понял, что ничего мне не надо, только вот эту способность видеть, какими бывают люди в минуты озарения, работу, за которой могу приблизиться к их высокой значимости. Только это может оправдать жизнь.
А ведь я могу… Это мое… Ведь это лицо, такое лицо я написал сам. Только вчера… Ничего мне не надо, кроме того, что я могу… Могу!
Я еще долго сидел не шевелясь — сна не было.
25 февраля.
Можно ли так сказать: «бархатный мороз». Или «теплый холод»?
Все неточно. Нет новизны ощущения, какое испытывала я. А какое бы определение этому нашли писатели?
Я вышла на крыльцо в легком платье без рукавов и тогда почувствовала это. Наступала весна. Снег еще не трогался — здесь он удивительно белый, — только по дорогам начал схватываться слюдяными кружевцами на соломинках да спекшейся корочкой на скосах сугробов. Солнце поймало меня, окатило голые руки и не давало шевелиться. Еще от снега снизу поднимался мороз, а сверху держала колючая весенняя теплота. И уже не можешь уйти, потерять эту ласковую свежесть. Будто весна купает. Надеть бы на ноги пимы, чтобы не чувствовали прохладного дыхания снега коленки, и можно блаженно отдаться этой весне.
Я думала: как весна знает, что мне надо! Она вся во мне… Или я — ее порождение, как воздух, который есть, но никак его не потрогаешь, как мокрая веточка. Как написать об этом и остаться такой же внезапной, как солнечный воздух, чтобы люди, прикоснувшись к словам, почувствовали знобящую причастность к миру, ощущение его радости, как чувствую это я. А радость не исчезла во мне до самого вечера. Я снимала с ограды белье. Смерзшееся и теплое, оно стояло коробом и сразу никло на ладонях. От него пахло согрой. Я собрала его в охапку, хотела идти домой, и тут увидела мальчишку.
— Санька! Санек, — ужаснулась я и не заметила, что назвала его так, как называют деревенские мальчишки. — Ты откуда? Замерз же. Господи! Плачешь, что ли? Ну-ка зайди.
Санек медлит. Я бросила на снег белье и ввела его за рукав.
— Зайди.
— Не, — говорит Санек. — Я пойду.
— Ладно, отогрейся чуть. Я же у вас была.
В избе варежки он держал под мышкой, а руки сжимал, как леденцы нес.
Я забрала у него варежки. Они тяжелы, будто в них налита вода, а сверху накатанно настыли льдинки. Я посадила его на стул. Он скинул пимы. Пимы стучали колодками. Шерстяные носки хоть выжми. Санек прошелся по полу к печке, оставляя следы.
Штаны его обледенели, стояли раструбами, а на сгибах ледяной панцирь разрушен, сломан мокрыми складками.
Я сняла с него носки, и ноги у него оказались белыми, в грязных узорах шерстяной вязки.
Санек крепился от боли.
— Откуда ты такой?
— На льду лежал.
— Почему? Где?
— За камышами на озере. Там рыба дохнет. Все сейчас туда идут. На санках ломы привозят. Проруби продолбили — ждут, когда рыба подойдет.
— Зачем она подойдет?
— А дышать… Подо льдом же воздуха нет. Знаете, сколько там сейчас… Все с ломами пришли, а я так.
— Что делал?
— Смотрел в прорубь…
Санек поднимает большие глаза и доверительно сообщает:
— Вода зеленая-зеленая… Даже черная. Только все равно видно насквозь. Нет… Только сверху насквозь. Рыба помаленечку из глубины плывет головой кверху, к проруби тянется. Тоже зеле-е-еная. А ее строгой ка-а-к ударят! Зубьями. Выбросят на лед — она застынет, и глаза у нее остановятся.
— Они же?.. Они же у нее и так никогда не моргают!
— Нет… Они у нее живые… А на льду останавливаются.
У Санька от пронзительного видения тоже круглеют глаза.
— А маленьких рыбок сколько!.. Как звездочки — брызнут, и нет их. Потом опять собираются. Это они уже надышались.
— А что это — строга?
Санек смотрит на меня с открытым ртом и долго соображает.
— Зубья такие длинные с бородками на палке. Есть восемь зубов, а то и двенадцать.
Санек растопыривает пальцы. Они не слушаются.
— Весь день в прорубь смотрел?