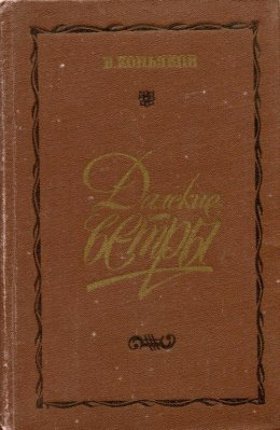— С утра.
— Почему тебя никто не прогнал?
— А прогоняли…
— Ты же простыл… Замерз как.
— Все тоже замерзли. Я хоть в варежках был, а рыбаки так. Руки у них… опухли даже от воды.
— Ты в школе был?
У Санька чуть вздрагивают глаза, но не моргают и смотрят открыто. Он только отводит в сторону лицо.
— Я пойду.
— А сумка твоя где?
— Под крыльцом в школе.
— Спрятал?
— Я пойду.
— Давай штаны посушим? Я не буду больше про школу спрашивать. Ты мне так расскажи что-нибудь. Про рыбу.
Санек поспешно надевает пимы.
— Какие штаны мокрые!
Они влажно шумели, липли к коленкам.
— Уже теплые.
— Ладно. Только теперь бегом.
И двоечник ушел. Я собрала со снега белье, и мне показалось, что теперь оно пахло озером. Положила белье на кровать. Мне отчетливо виделись круглые проруби, полные водой, и выброшенная рыба на льду, с застывшими кверху хвостиками.
«…Глаза у рыбы в воде живые, а на льду останавливаются…»
Как передать словами внезапность ощущения? Если бы обладать маленькой долей видения этого мальчишки! Ведь любознательный двоечник даже не знает, как свежи его слова.
А я призвана учить его литературе. Я, потому что пятнадцать лет штудировала толстые учебники. И это, должно быть, считается справедливым, что его учитель с неколебимой убежденностью ставит ему двойки.
Я забываю про белье, сажусь к столу и начинаю записывать: «За воротцами, чуть пройти за огород — начинается согра. Сизым дыханием исходит над ней утро. Согра подступает к кузне изувеченной черемухой. Деревце в куче навоза однобоко свешивается с горы. Под ним вытаяли и почернели брошенные колеса.
Над шиферными крышами изб плавится весенний воздух. Я смотрю на согру вниз и только сейчас начинаю различать тончайшие оттенки.
Согра кажется серой. Серая согра… как люди, если с ними не соприкасаешься, если…»
Я останавливаюсь и не знаю, как продолжить. Серая согра, пока в нее не войдешь…
Нет… Какая-то деланность. Вот и застопорилось.
Я пытаюсь сосредоточиться и вспомнить: что же со мной было утром, когда я выходила на снег? Вот уж и исчезла неуловимая настроенность — легкая и неопределенная. Все заглохло. И я уже знаю, что не смогу даже вспомнить и воспроизвести непосредственность рассказа мальчишки. У меня нет его слов. Я прожила в деревне полгода и… будто не прожила, а прошла мимо.
Я вдруг соображаю, что сижу, ничего не записываю, не прикасаюсь к белью, а жду с нетерпеливой радостью девчат — они обещали зайти за мной сегодня, и мы пойдем вместе на ферму.
Шли по крутой тропинке. Когда поднялись наверх, сквозь рябую белизну деревьев увидели дворы.
— А мы их у себя в дежурке оставим, — говорит Лида Бессонова.
Девчата запыхались. Им тяжело и неудобно нести в руках толстые стопки журналов. Пока я дома надевала валенки, девчата на столе листали «Неву».
— Вы только журналы читаете? А мы… — Лида помедлила и поправилась: — Я современные книги не очень люблю… Начнешь читать… В старых книгах все необыкновенное, и говорят как-то не так, и красивые все…
Мне хотелось улыбнуться.
— Знаете что? Забирайте все это… Мы еще о них поговорим.
Я собрала с пола свалившийся штабель журналов и отдала девчатам.
В дежурке замороженное окно, в углу мерцает приемник «Рекорд». Пробиваются в этот затерявшийся уголок в березах мелодичные позывные радиостанции «Юность».
Приемник у них, видно, остается включенным всегда, в нем потрескивало, и тусклый глазок вздрагивал в сумраке.
Мы вышли на улицу. В раскрытые ворота въехала подвода, и женщина, стоя на возу, раскидывала вилами силос. Следом за нею, как серая краска по бумаге, текли овцы.
— Потолькя, ты еще соломы привези, — из глубины двора кричал дед Подзоров, — подстилку сделаем. Здоровы были, — ответил он мне и обрадовался. Почему-то он показался маленьким. Его большие валенки уголками голяшек торчали над коленками и, когда он шагал, зачерпывали воздух, как птицы. — Вот… Руки отказываются работать… Болел я. Заместо меня двух женщин поставили. Я ня знал…