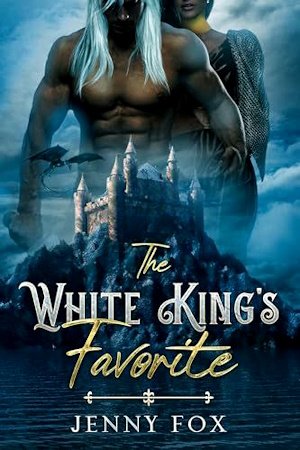— А от чего же?
— От того чувства, которое есть во мне, в нем, — он указал на Тимохина, — в каждом солдате.
Князь Андрей взглянул на Тимохина, который испуганно и недоумевая смотрел на своего командира. В противность своей прежней сдержанной молчаливости, князь Андрей казался теперь взволнованным. Он видимо не мог удержаться от высказывания тех мыслей, которые неожиданно приходили ему.
— Сражение выигрывает тот, кто твердо решил его выиграть. Отчего мы под Аустерлицем проиграли сражение? У нас потеря была почти равная с французами, но мы сказали себе очень рано, что мы проиграли сражение, и проиграли. А сказали мы это потому, что нам там не зачем было драться: поскорее хотелось уйти с поля сражения. «Проиграли — ну так бежать!» мы и побежали. Ежели бы до вечера мы не говорили этого, Бог знает чтó бы было. А завтра мы этого не скажем. Ты говоришь: наша позиция, левый фланг слаб, правый фланг растянут, — продолжал он, — всё это вздор, ничего этого нет. А чтó нам предстоит завтра? сто миллионов самых разнообразных случайностей, которые будут решаться мгновенно тем, что побежали или побегут они или наши, что убьют того, убьют другого: а то, чтò делается теперь — всё это забава. Дело в том, что те, с кем ты ездил по позиции, не только не содействуют общему ходу дел, но мешают ему. Они заняты только своими маленькими интересами.
— В такую минуту? — укоризненно сказал Пьер.
— В такую минуту, — повторил князь Андрей, — для них это только такая минута, в которую можно подкопаться под врага и получить лишний крестик или ленточку. Для меня на завтра вот чтó: стотысячное русское и стотысячное французское войска сошлись драться, и факт в том, что эти 200 тысяч дерутся, и кто будет злей драться и себя меньше жалеть, тот победит. И хочешь, я тебе скажу, что, чтò бы там ни было, чтò бы ни путали там вверху, мы выиграем сражение завтра. Завтра, чтó бы там ни было, мы выиграем сражение!
— Вот, ваше сиятельство, правда, правда истинная, — проговорил Тимохин, — что себя жалеть теперь! Солдаты в моем батальоне, поверите ли, не стали водку пить: не такой день, говорят. — Все помолчали.
Офицеры поднялись. Князь Андрей вышел с ними за сарай, отдавая последние приказания адъютанту. — Когда офицеры ушли, Пьер подошел к князю Андрею и только что хотел начать разговор, как по дороге недалеко от сарая застучали копыта трех лошадей и, взглянув по этому направлению, князь Андрей узнал Вольцогена с Клаузевицом, сопутствуемых казаком. Они близко проехали, продолжая разговаривать, и Пьер с Андреем невольно услыхали следующие фразы:
— «Der Krieg muss im Raum verlegt werden. Der Ansicht kann ich nicht genug Preis geben»[672], — говорил один.
— О ja, — сказал другой голос, — der Zweck ist nur den Feind zu schwächen, so kann man gewiss nicht den Verlust der Privat-Personen in Achtung nehmen.
— О ja,[673] — подтвердил первый голос.
— Да, im Raum verlegen,[674] — повторил, злобно фыркая носом, князь Андрей, когда они проехали. — Im Raum[675] у меня остался отец, и сын, и сестра в Лысых Горах. Ему это всё равно. Вот оно то, чтò я тебе говорил — эти господа-немцы завтра не выиграют сражения, а только нагадят, сколько их сил будет, потому что в его немецкой голове только рассуждения, не стоящие выеденного яйца, а в сердце нет того, чтò одно только и нужно на завтра, то, чтò есть в Тимохине. Они всю Европу отдали ему и приехали нас учить — славные учители! — опять взвизгнул его голос.
— Так вы думаете, что завтрашнее сражение будет выиграно? — сказал Пьер.
— Да, да, — рассеянно сказал князь Андрей. — Одно, что бы я сделал, ежели бы имел власть, — начал он опять, — я не брал бы пленных. Что такое пленные? Это рыцарство. Французы разорили мой дом и идут разорить Москву, оскорбили и оскорбляют меня всякую секунду. Они враги мои, они преступники все по моим понятиям. И так же думает Тимохин и вся армия. Надо их казнить. Ежели они враги мои, то не могут быть друзьями, как бы они там ни разговаривали в Тильзите.
— Да, да, — проговорил Пьер, блестящими глазами глядя на князя Андрея, — я совершенно, совершенно согласен с вами!
Тот вопрос, который с Можайской горы и во весь этот день тревожил Пьера, теперь представился ему совершенно ясным и вполне разрешенным. Он понял теперь весь смысл и всё значение этой войны и предстоящего сражения. Всё, чтò он видел в этот день, все значительные, строгие выражения лиц, которые он мельком видел, осветились для него новым светом. Он понял ту скрытую (latente), как говорится в физике, теплоту патриотизма, которая была во всех тех людях, которых он видел, и которая объясняла ему то, зачем все эти люди спокойно и как будто легкомысленно готовились к смерти.
— Не брать пленных, — продолжал князь Андрей. — Это одно изменило бы всю войну и сделало бы ее менее жестокою. А то мы играли в войну, — вот чтó скверно, мы великодушничаем и т. п. Это великодушничанье и чувствительность — в роде великодушия и чувствительности барыни, с которою делается дурнота, когда она видит убиваемого теленка; она так добра, что не может видеть кровь, но она с аппетитом кушает этого теленка под соусом. Нам толкуют о правах войны, о рыцарстве, о парламентерстве, щадить несчастных и т. д. Всё вздор. Я видел в 1805-м году рыцарство, парламентерство; нас надули, мы надули. Грабят чужие дома, пускают фальшивые ассигнации, да хуже всего, убивают моих детей, моего отца и говорят о правилах войны и великодушии к врагам. Не брать пленных, а убивать и итти на смерть! Кто дошел до этого так как я, теми же страданиями...
Князь Андрей, думавший, что ему было всё равно, возьмут ли или не возьмут Москву так, как взяли Смоленск, внезапно остановился в своей речи от неожиданной судороги, схватившей его за горло. Он прошелся несколько раз молча, но глаза его лихорадочно блестели, и губа дрожала, когда он опять стал говорить.
— Ежели бы не было великодушничанья на войне, то мы шли бы только тогда, когда стòит того итти на верную смерть, как теперь. Тогда не было бы войны за то, что Павел Иваныч обидел Михаила Иваныча. А ежели война как теперь, так воина. И тогда интенсивность войск была бы не та, как теперь. Тогда бы все эти вестфальцы и гессенцы, которых ведет Наполеон, не пошли бы за ним в Россию, и мы бы не ходили драться в Австрию и в Пруссию, сами не зная зачем. Война не любезность, а самое гадкое дело в жизни, и надо понимать это, и не играть в войну. Надо принимать строго и серьезно эту страшную необходимость. Всё в этом: откинуть ложь, и война так война, а не игрушка. А то война — это любимая забава праздных и легкомысленных людей... Военное сословие самое почетное. А чтó такое война, чтó нужно для успеха в военном деле, какие нравы военного общества? Цель войны — убийство, орудия войны — шпионство, измена и поощрение ее, разорение жителей, ограбление их или воровство для продовольствия армии; обман и ложь, называемые военными хитростями; нравы военного сословия — отсутствие свободы, т. е. дисциплина, праздность, невежество, жестокость, разврат, пьянство. И несмотря на то, это — высшее сословие, почитаемое всеми. Все цари, кроме китайского, носят военный мундир, и тому, кто больше убил народа, дают бòльшую награду... Сойдутся, как завтра, на убийство друг друга, перебьют, перекалечат десятки тысяч людей, a потом будут служить благодарственные молебны за то, что побили много людей (которых число еще прибавляют) и провозглашают победу, полагая, что чем больше побито людей, тем больше заслуга. Как Бог оттуда смотрит и слушает их! — тонким, пискливым голосом прокричал князь Андрей. — Ах, душа моя, последнее время мне стало тяжело жить. Я вижу, что стал понимать слишком много. А не годится человеку вкушать от древа познания добра и зла... Ну, да не надолго! — прибавил он. — Однако ты спишь, да и мне пора, поезжай в Горки, — вдруг сказал князь Андрей.
— О, нет! — отвечал Пьер, испуганно-соболезнующими глазами глядя на князя Андрея.
— Поезжай, поезжай: пред сражением нужно выспаться, — повторил князь Андрей. Он быстро подошел к Пьеру, обнял его и поцеловал. — Прощай, ступай, — прокричал он. — Увидимся ли, нет... — и он, поспешно повернувшись, ушел в сарай.
Было уже темно, и Пьер не мог разобрать того выражения, которое было на лице князя Андрея, было ли оно злобно или нежно.
Пьер постоял несколько времени молча, раздумывая, пойти ли за ним или ехать домой. «Нет, ему не нужно!» решил сам собой Пьер, «и я знаю, что это наше последнее свидание». Он тяжело вздохнул и поехал назад в Горки.
Князь Андрей, вернувшись в сарай, лег на ковер, но не мог спать.
Он закрыл глаза. Одни образы сменялись другими. На одном он долго, радостно остановился. Он живо вспомнил один вечер в Петербурге. Наташа с оживленным, взволнованным лицом рассказывала ему, как она в прошлое лето, ходя за грибами, заблудилась в большом лесу. Она несвязно описывала ему и глушь леса, и свои чувства, и разговоры с пчельником, которого она встретила, и всякую минуту перерываясь в своем рассказе, говорила: «нет, не могу, я не так рассказываю; нет, вы не понимаете», несмотря на то, что князь Андрей успокоивал ее, говоря, что он понимает, и действительно понимал всё, чтò она хотела сказать. Наташа была недовольна своими словами, — она чувствовала, что не выходило то страстно-поэтическое ощущение, которое она испытала в этот день, и которое она хотела выворотить наружу. «Это такая прелесть был этот старик, и темно так в лесу... и такие добрые у него... нет, я не умею рассказать», говорила она, краснея и волнуясь. — Князь Андрей улыбнулся теперь тою же радостною улыбкой, которою он улыбался тогда, глядя ей в глаза. «Я понимал ее», думал князь Андрей. «Не только понимал, но эту-то душевную силу, эту искренность, эту открытость душевную, эту-то душу ее, которую как будто связывало тело, эту-то душу я и любил в ней... так сильно, так счастливо любил...» И вдруг он вспомнил о том, чем кончилась его любовь. «Ему ничего этого не нужно было. Он ничего этого не видел и не понимал. Он видел в ней хорошенькую и свеженькую девочку, с которою он не удостоил связать свою судьбу. А я?... И до сих пор он жив и весел».
Князь Андрей, как будто кто-нибудь обжог его, вскочил и стал опять ходить пред сараем. 25-го августа, накануне Бородинского сражения, префект дворца императора французов, m-r de Beausset[676] и полковник Fabvier[677] приехали первый из Парижа, второй из Мадрида, к императору Наполеону в его стоянку у Валуева. Переодевшись в придворный мундир, m-r de Beausset приказал нести впереди себя привезенную им императору посылку и вошел в первое отделение палатки Наполеона, где, переговариваясь с окружившими его адъютантами Наполеона, занялся раскупориванием ящика. Fabvier, не входя в палатку, остановился, разговорясь с знакомыми генералами, у входа в нее. Император Наполеон еще не выходил из своей спальни и оканчивал свой туалет. Он, пофыркивая и покряхтывая, поворачивался то толстою спиной, то обросшею жирною грудью под щетку, которою камердинер растирал его тело. Другой камердинер, придерживая пальцем стклянку, брызгал одеколоном на выхоленное тело императора с таким выражением, которое говорило, что он один мог знать, сколько и куда надо брызнуть одеколону. Короткие волосы Наполеона были мокры и спутаны на лоб. Но лицо его, хотя опухшее и желтое, выражало физическое удовольствие: Allez ferme, allez toujours[678]... приговаривал он, пожимаясь и покряхтывая, растиравшему камердинеру. Адъютант, вошедший в спальню с тем, чтобы доложить императору о том, сколько было во вчерашнем деле взято пленных, передав то, что нужно было, стоял у двери, ожидая позволения уйти. Наполеон сморщась взглянул исподлобья на адъютанта. — Point de prisonniers, — повторил он слова адъютанта. — Il se font démolir. Tant pis pour l’armée russe, — сказал он. — Allez toujours, allez ferme,[679] — проговорил он, горбатясь и подставляя свои жирные плечи. — C’est bien! Faites entrer m-r de Beausset, ainsi que Fabvier,[680] — сказал он адъютанту, кивнув головой. — Oui, Sire,[681] — и адъютант исчез в дверь палатки. Два камердинера быстро одели его величество, и он, в гвардейском синем мундире, твердыми, быстрыми шагами вышел в приемную. Боссе в это время торопился руками, устанавливая привезенный им подарок от императрицы на двух стульях, прямо пред входом императора. Но император так неожиданно скоро оделся и вышел, что он не успел вполне приготовить сюрприз. Наполеон тотчас заметил то, чтò они делали и догадался, что они были еще не готовы. Он не захотел лишить их удовольствия сделать ему сюрприз. Он притворился, что не видит господина Боссе, и подозвал к себе Фабвье. Наполеон слушал, строго нахмурившись и молча то, чтò говорил Фабвье о храбрости и преданности его войск, дравшихся при Саламанке на другом конце Европы и имевших только одну мысль — быть достойными своего императора, и один страх — не угодить ему. Результат сражения был печальный. Наполеон делал иронические замечания во время рассказа Fabvier, как будто он и не предполагал, чтобы дело могло итти иначе в его отсутствии. — Я должен поправить это в Москве, — сказал Наполеон. — A tantôt,[682] — прибавил он и подозвал де-Боссе, который в это гремя уже успел приготовить сюрприз, уставив что-то на стульях, и накрыл что-то покрывалом. Де-Боссе низко поклонился тем придворным французским поклоном, которым умели кланяться только старые слуги Бурбонов и подошел, подавая конверт. Наполеон весело обратился к нему и подрал его за ухо. — Вы поспешили, очень рад. Ну чтó говорит Париж? — сказал он, вдруг изменяя свое прежде строгое выражение на самое ласковое.
XXVI.