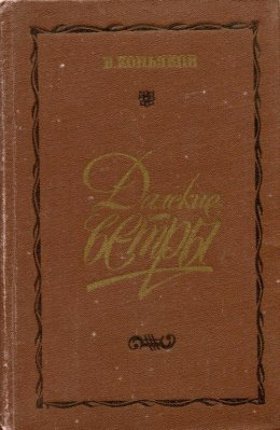Она опустила руки, и высокий воротник тулупа свалился назад.
— У вас явная потребность поупражняться в пошлости.
На меня еще никогда не смотрели с такой неумолимой неприязнью. Черные зрачки ее сошлись до булавочных точек.
— Вы бы шли домой… Или куда там… Видите, ваш друг уже спит.
Я опешил. В комнате ничего не было. Некрашеный пол, сгущающийся полумрак, Лампочка пронзительно освещала только угол, и почему-то казалось, что атлас стеганого одеяла холоден.
Легкий же парень этот спортсмен! Свободен от меня, которого бог весть зачем вел, свободен от этой девочки, своей жены.
Мне она казалась именно девочкой. Лампочка горела за спиной, и маленькая головка девочки была темной и неподвижной, как у остановившегося японского божка.
Жена! Неискушенная городская девчонка останется наедине с безжизненно пьяным парнем в нетопленой комнате с голыми стенами.
Мне ничего не оставалось делать, как уйти, а я смотрел на кровать, приготовленную на двоих.
— Вы бы шли домой. Правда…
Юрий спал, положив согнутую руку на глаза. Я хмыкнул, неуклюже повернулся и пошел, а спиной помнил исписанные листы бумаги под лампочкой и жену агронома в тулупе с пустыми, свесившимися по бокам рукавами.
На улице, трезвея от мороза, подумал, что не хочу никуда спешить.
Кругом — белым-бело. Легкий снежок на укатанной дороге. Тронешь ботинком, он не чувствуется, только наст скользкий под ногой. Месяц над дорогой. Словно нарочно для меня. Смотри. Деревня все такая же. Не изменилась, как двадцать лет назад. Парнишка на самодельных лыжах ходил вон по тому сугробу, скатывался у тына, а потом что-то чертил лыжной палкой на стенках сугробов. А резкая тень от тальникового кружка растягивалась по снегу.
Что же ты хотел тогда, о чем думал в свои десять лет? Сейчас идешь точно такой же ночью, по той же улице, банально пьян, и у тебя ни уверенности, ни семьи.
Вот здесь росла черемуха. Колхозники проезжали под ней и стучали по веткам дугами. А сейчас на месте черемухи новый дом под шифером, замерзшие стекла веранды. Над крышами домов штрихи антенн телевизоров. Доверчиво подставила деревня темные окна напряженному месяцу. Укладывается спать жена агронома. Я иду по улице и почему-то хочу, чтобы она нравилась, эта улица, жене агронома, и хочу, чтобы все люди знали, как бывает зимой легко на ее ночных дорогах. И не такие уж стылые по ночам тридцатиградусные морозы.
Дома у двери, дожидаясь, когда откроет мне мама, я уже без радужного восторга думал: глухо спит деревня. В больших снегах, как в берлоге.
5 октября.
Вечером Юрка привез дрова. Я стояла у телеги, а Юрка скидывал березовые лесинки. Они белые в черных пупырышках и ровненькие. Я сказала:
— Березки загубил.
Юрка ответил, что это сушняк. Валежины. Говорит-то как! Валежины.
О том, что это валежины, я узнала, когда Юрка стал их рубить. Кора на березах лопалась и слезала. Под ней обнажался шоколадный ствол, изрытый дорожками с желтой пыльцой. И пахло от дров грибами. Я попросила: «Дай мне».
— Ха! — выдохнула я, неловко ударяя топором. — Х-х-а…
Березки были твердые, как кость.
— Катя! Прелесть. Ты где научилась?
— Чему?
— Х-х-а.
— У деда Подзорова.
Юрка засмеялся. Я опустила топор, выпрямилась. Был вечер. Густое небо падало за плетни, за согру. Уже раскрыты в огороды ворота, вырублена капуста, сбились листья к плетням. Воздух прозрачный и стылый, как вода в здешних колодцах. Я запрокинула голову, хотелось чувствовать его лицом и губами.
— Ну-ка неси… неси дрова за избу.
Когда мы зашли за стенку, Юрка наклонился ко мне и поцеловал осторожно-осторожно.
Я взбежала на крыльцо. Юрка остановился внизу, удивленно рассматривая меня. А я боялась, чтобы кто-нибудь не вспугнул эту неясную радость.
— Юрка! Знаешь, мы молодцы. Взяли и приехали. В далекую-далекую Сибирь. И вольны делать все, что нам захочется. Никого у меня нет. Я сама. Это, наверное, детское — я сама. Сама… Как думаю, как понимаю, как настаиваю. Это для меня главное. Других забот нет. Я — Диоген. Мне ничего не надо. Только делать то, что хочу. Я уехала от посторонних забот к своим желаниям. Хочу работать. А в избе у нас будет только стол, стулья, посуда.
— И кровать. — Юрка посмотрел на меня так, чтобы я поняла, почему именно кровать. Мне улыбка эта не понравилась. — А ужин-то варить будем?
— Я принесла с фермы молоко.
10 октября.
Утром Юрка выбежал на улицу в трусах и кедах — прыгал во дворе со скакалкой. Какая-то пожилая женщина увидела его, далеко остановилась и ждала, когда он закончит физзарядку. Застыдилась. Должно быть, подумала: «Мужик нагишом прядает».
Смешная целомудренность.
Потом Юрка убежал на конный двор запрягать свою лошадь в ходок. Я уже знаю, что это такое — ходок: плетеный коробок из прутьев, изогнутый этаким славянским ковшиком. Коробок на легкой телеге, а в нем восседает Юрка в кепке и кирзовых сапогах. Юрка вживается в кирзовые сапоги.
Прежде чем уехать, Юрка соскакивает, снимает вожжи с кола и долго возится у кроткой головы коня. Конь оживляется, задирает морду, а Юрка зачем-то засовывает ему в рот стальную, как две сцепленные авторучки, цепку. Металл глухо колгочит по костяшкам зубов.
Юрка уехал. Опять на целый день, а я… Нужно сходить за хлебом в кладовую. Нам выдают его готовый. Поспешу к семи. Не хочу, чтобы там было много народу. Когда бы я ни пришла, женщины уже ждут тетку Надежу с тележкой. Кладовая открыта. Вместо ступеньки в амбар — толстое бревно в мазуте. Мне всегда мешает мое узкое платье. Я поднимаюсь, а женщины рассматривают мои коленки. В кладовую они не заходят — ждут хлеб на солнце.