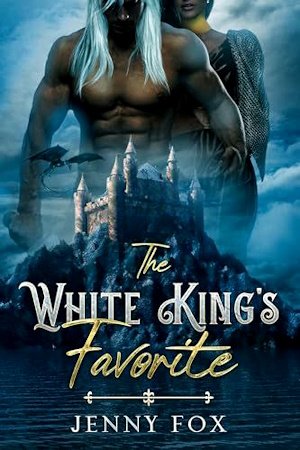Приехавший был Бицкий, служивший в различных комиссиях, бывавший во всех обществах Петербурга, страстный поклонник новых идей и Сперанского и озабоченный вестовщик Петербурга, один из тех людей, которые выбирают направление как платье — по моде, но которые по этому-то кажутся самыми горячими партизанами направлений. Он озабоченно, едва успев снять шляпу, вбежал к князю Андрею и тотчас же начал говорить. Он только что узнал подробности заседания Государственного Совета нынешнего утра, открытого государем, и с восторгом рассказывал о том. Речь государя была необычайна. Это была одна из тех речей, которые произносятся только конституционными монархами. «Государь прямо сказал, что Совет и Сенат суть государственные сословия; он сказал, что правление должно иметь основанием не произвол, а твердые начала. Государь сказал, что финансы должны быть преобразованы и отчеты быть публичны», рассказывал Бицкий, ударяя на известные слова и значительно раскрывая глаза.
— Да, нынешнее событие есть эра, величайшая эра в нашей истории, — заключил он.
Князь Андрей слушал рассказ об открытии Государственного Совета, которого он ожидал с таким нетерпением и которому приписывал такую важность, и удивлялся, что событие это теперь, когда оно совершилось, не только не трогало его, но представлялось ему более чем ничтожным. Он с тихою насмешкой слушал восторженный рассказ Бицкого. Самая простая мысль приходила ему в голову: «Какое дело мне и Бицкому, какое дело нам до того, что́ государю угодно было сказать в Совете? Разве всё это может сделать меня счастливее и лучше?»
И это простое рассуждение вдруг уничтожило для князя Андрея весь прежний интерес совершаемых преобразований. В этот же день князь Андрей должен был обедать у Сперанского «en petit comité»,[508] как ему сказал хозяин, приглашая его. Обед этот в семейном и дружеском кругу человека, которым он так восхищался, прежде очень интересовал князя Андрея, тем более что до сих пор он не видал Сперанского в его домашнем быту; но теперь ему не хотелось ехать.
В назначенный час обеда, однако, князь Андрей уже входил в собственный, небольшой дом Сперанского у Таврического сада. В паркетной столовой небольшого домика, отличавшегося необыкновенною чистотой (напоминающею монашескую чистоту) князь Андрей, несколько опоздавший, уже нашел в пять часов всё собравшееся общество этого petit comité, интимных знакомых Сперанского. Дам не было никого кроме маленькой дочери Сперанского (с длинным лицом, похожим на отца) и ее гувернантки. Гости были Жерве, Магницкий и Столыпин. Еще из передней князь Андрей услыхал громкие голоса и звонкий, отчетливый хохот — хохот, похожий на тот, каким смеются на сцене. Кто-то голосом, похожим на голос Сперанского, отчетливо отбивал: ха... ха... ха... Князь Андрей никогда не слыхал смеха Сперанского, и этот звонкий, тонкий смех государственного человека странно поразил его.
Князь Андрей вошел в столовую. Всё общество стояло между двух окон у небольшого стола с закуской. Сперанский в сером фраке с звездой, очевидно в том еще белом жилете и высоком белом галстуке, в которых он был в знаменитом заседании Государственного Совета, с веселым лицом стоял у стола. Гости окружали его. Магницкий, обращаясь к Михайлу Михайловичу, рассказывал анекдот. Сперанский слушал, вперед смеясь тому, что́ скажет Магницкий. В то время как князь Андрей вошел в комнату, слова Магницкого опять заглушились смехом. Громко басил Столыпин, пережевывая кусок хлеба с сыром; тихим смехом шипел Жерве, и тонко, отчетливо смеялся Сперанский.
Сперанский, всё еще смеясь, подал князю Андрею свою белую, нежную руку.
— Очень рад вас видеть, князь, — сказал он. — Минутку... обратился он к Магницкому, прерывая его рассказ. — У нас нынче уговор: обед удовольствия, и ни слова про дела. — И он опять обратился к рассказчику, и опять засмеялся.
Князь Андрей с удивлением и грустью разочарования слушал его смех и смотрел на смеющегося Сперанского. Это был не Сперанский, а другой человек, казалось князю Андрею. Всё, что́ прежде таинственно и привлекательно представлялось князю Андрею в Сперанском, вдруг стало ему ясно и непривлекательно.
За столом разговор ни на мгновение не умолкал и состоял как будто бы из собрания смешных анекдотов. Еще Магницкий не успел докончить своего рассказа, как уж кто-то другой заявил свою готовность рассказать что-то, что́ было еще смешнее. Анекдоты большею частью касались ежели не самого служебного мира, то лиц служебных. Казалось, что в этом обществе так окончательно было решено ничтожество этих лиц, что единственное отношение к ним могло быть только добродушно-комическое. Сперанский рассказал, как на совете сегодняшнего утра на вопрос у глухого сановника о его мнении, сановник этот отвечал, что он того же мнения. Жерве рассказал целое дело о ревизии, замечательное по бессмыслице всех действующих лиц. Столыпин заикаясь вмешался в разговор и с горячностью начал говорить о злоупотреблениях прежнего порядка вещей, угрожая придать разговору серьезный характер. Магницкий стал трунить над горячностью Столыпина, Жерве вставил шутку и разговор принял опять прежнее, веселое направление.
Очевидно, Сперанский после трудов любил отдохнуть и повеселиться в приятельском кружке, и все его гости, понимая его желание, старались веселить его и сами веселиться. Но веселье это казалось князю Андрею тяжелым и невеселым. Тонкий звук голоса Сперанского неприятно поражал его, и неумолкавший смех своею фальшивою нотой почему-то оскорблял чувство князя Андрея. Князь Андрей не смеялся и боялся, что он будет тяжел для этого общества. Но никто не замечал его несоответственности общему настроению. Всем было, казалось, очень весело.
Он несколько раз желал вступить в разговор, но всякий раз его слово выбрасывалось вон, как пробка из воды; и он не мог шутить с ними вместе.
Ничего не было дурного или неуместного в том, что́ они говорили, всё было остроумно и могло бы быть смешно; но чего-то того самого, что́ составляет соль веселья, не только не было, но они и не знали, что оно бывает.
После обеда дочь Сперанского с своею гувернанткой встали.
Сперанский приласкал дочь своею белою рукой, и поцеловал ее. И этот жест показался неестественным князю Андрею.
Мужчины, по-английски, остались за столом и за портвейном. В середине начавшегося разговора об испанских делах Наполеона, одобряя которые, все были одного и того же мнения, князь Андрей стал противоречить им. Сперанский улыбнулся и, очевидно желая отклонить разговор от принятого направления, рассказал анекдот, не имеющий отношения к разговору. На несколько мгновений все замолкли.
Посидев за столом, Сперанский закупорил бутылку с вином и сказав: «нынче хорошее винцо в сапожках ходит», отдал слуге и встал. Все встали и также шумно разговаривая пошли в гостиную. Сперанскому подали два конверта, привезенные курьером. Он взял их и прошел в кабинет. Как только он вышел, общее веселье замолкло и гости рассудительно и тихо стали переговариваться друг с другом.
— Ну, теперь декламация! — сказал Сперанский, выходя из кабинета. — Удивительный талант! — обратился он к князю Андрею. Магницкий тотчас же стал в позу и начал говорить французские шутливые стихи, сочиненные им на некоторых известных лиц Петербурга, и несколько раз был прерываем аплодисментами. Князь Андрей, по окончании стихов, подошел к Сперанскому, прощаясь с ним.
— Куда вы так рано? — сказал Сперанский.
— Я обещал на вечер...
Они помолчали. Князь Андрей смотрел близко в эти зеркальные, непропускающие к себе глаза и ему стало смешно, как он мог ждать чего-нибудь от Сперанского и от всей своей деятельности, связанной с ним, и как мог он приписывать важность тому, что́ делал Сперанский. Этот аккуратный, невеселый смех долго не переставал звучать в ушах князя Андрея после того, как он уехал от Сперанского.
Вернувшись домой, князь Андрей стал вспоминать свою петербургскую жизнь за эти четыре месяца, как будто что-то новое. Он вспоминал свои хлопоты, искательства, историю своего проекта военного устава, который был принят к сведению и о котором старались умолчать единственно потому, что другая работа, очень дурная, была уже сделана и представлена государю; вспомнил о заседаниях комитета, членом которого был Берг; вспомнил, как в этих заседаниях старательно и продолжительно обсуживалось всё касающееся формы и процесса заседаний комитета, и как старательно и кратко обходилось всё, что́ касалось сущности дела. Он вспомнил о своей законодательной работе, о том, как он озабоченно переводил на русский язык статьи римского и французского свода, и ему стало совестно за себя. Потом он живо представил себе Богучарово, свои занятия в деревне, свою поездку в Рязань, вспомнил мужиков, Дрона-старосту, и приложив к ним права лиц, которые он распределял по параграфам, ему стало удивительно, как он мог так долго заниматься такою праздною работой. На другой день князь Андрей поехал с визитами в некоторые дома, где он еще не был, и в том числе к Ростовым, с которыми он возобновил знакомство на последнем бале. Кроме законов учтивости, по которым ему нужно было быть у Ростовых, князю Андрею хотелось видеть дома эту особенную, оживленную девушку, которая оставила ему приятное воспоминание. Наташа одна из первых встретила его. Она была в домашнем синем платье, в котором она показалась князю Андрею еще лучше, чем в бальном. Она и всё семейство Ростовых приняли князя Андрея, как старого друга, просто и радушно. Всё семейство, которое строго судил прежде князь Андрей, теперь показалось ему составленным из прекрасных, простых и добрых людей. Гостеприимство и добродушие старого графа, особенно мило поразительное в Петербурге, было таково, что князь Андрей не мог отказаться от обеда. «Да, это добрые, славные люди, — думал Болконский, — разумеется, не понимающие ни на волос того сокровища, которое они имеют в Наташе; но добрые люди, которые составляют наилучший фон для того, чтобы на нем отделялась эта особенно-поэтическая, переполненная жизни, прелестная девушка!» Князь Андрей чувствовал в Наташе присутствие совершенно чуждого для него, особенного мира, преисполненного каких-то неизвестных ему радостей, того чуждого мира, который еще тогда, в отрадненской аллее и на окне, в лунную ночь, так дразнил его. Теперь этот мир уже более не дразнил его, не был чуждый мир; но он сам, вступив в него, находил в нем новое для себя наслаждение. После обеда Наташа, по просьбе князя Андрея, пошла к клавикордам и стала петь. Князь Андрей стоял у окна, разговаривая с дамами, и слушал ее. В середине фразы князь Андрей замолчал и почувствовал неожиданно, что к его горлу подступают слезы, возможность которых он не знал за собой. Он посмотрел на поющую Наташу, и в душе его произошло что-то новое и счастливое. Он был счастлив и ему вместе с тем было грустно. Ему решительно не о чем было плакать, но он готов был плакать. О чем? О прежней любви? О маленькой княгине? О своих разочарованиях?... О своих надеждах на будущее?... Да и нет. Главное, о чем ему хотелось плакать, была вдруг живо-сознанная им страшная противоположность между чем-то бесконечно-великим и неопределимым, бывшим в нем, и чем-то узким и телесным, чем он был сам и даже была она. Эта противоположность томила и радовала его во время ее пения. Только что Наташа кончила петь, она подошла к нему и спросила его, как ему нравится ее голос? Она спросила это и смутилась уже после того, как она это сказала, поняв, что этого не надо было спрашивать. Он улыбнулся, глядя на нее, и сказал, что ему нравится ее пение так же, как и всё, что́ она делает. Князь Андрей поздно вечером уехал от Ростовых. Он лег спать по привычке ложиться, но увидал скоро, что он не может спать. Он то, зажегши свечку, сидел в постели, то вставал, то опять ложился, нисколько не тяготясь бессонницей: так радостно и ново ему было на душе, как будто он из душной комнаты вышел на вольный свет Божий. Ему и в голову не приходило, чтоб он был влюблен в Ростову; он не думал о ней; он только воображал ее себе, и вследствие этого вся жизнь его представлялась ему в новом свете. «Из чего я бьюсь, из чего я хлопочу в этой узкой, замкнутой рамке, когда жизнь, вся жизнь со всеми ее радостями открыта мне?» — говорил он себе. И он в первый раз после долгого времени стал делать счастливые планы на будущее. Он решил сам собой, что ему надо заняться воспитанием своего сына, найдя ему воспитателя и поручив ему; потом надо выйти в отставку и ехать за границу, видеть Англию, Швейцарию, Италию. «Мне надо пользоваться своею свободой, пока так много в себе чувствую силы и молодости — говорил он сам себе. — Пьер был прав, говоря, что надо верить в возможность счастия, чтобы быть счастливым, и я теперь верю в него. Оставим мертвым хоронить мертвых, а пока жив, надо жить и быть счастливым», думал он. В одно утро полковник Адольф Берг, которого Пьер знал, как знал всех в Москве и Петербурге, в чистеньком с иголочки мундире, с припомаженными наперед височками, как носил государь Александр Павлович, приехал к нему. — Я сейчас был у графини, вашей супруги, и был так несчастлив, что́ моя просьба не могла быть исполнена; надеюсь, что у вас, граф, я буду счастливее, — сказал он, улыбаясь. — Что вам угодно, полковник? Я к вашим услугам. — Я теперь, граф, уже совершенно устроился на новой квартире, — сообщил Берг, очевидно зная, что это слышать не могло не быть приятно; — и потому желал сделать так, маленький вечерок для моих и моей супруги знакомых. (Он еще приятнее улыбнулся.) Я хотел просить графиню и вас сделать мне честь пожаловать к нам на чашку чая и... на ужин. Только графиня Елена Васильевна, сочтя для себя унизительным общество каких-то Бергов, могла иметь жестокость отказаться от такого приглашения. — Берг так ясно объяснил, почему он желает собрать у себя небольшое и хорошее общество, и почему это ему будет приятно, и почему он для карт и для чего-нибудь дурного жалеет деньги, но для хорошего общества готов и понести расходы, что Пьер не мог отказаться и обещался быть. — Только не поздно, граф, ежели смею просить, так без 10-ти минут в восемь, смею просить. Партию составим, генерал наш будет. Он очень добр ко мне. Поужинаем, граф. Так сделайте одолжение. Противно своей привычке опаздывать, Пьер в этот день вместо восьми без 10-ти минут, приехал к Бергам в восемь часов без четверти. Берги, припася, что́ нужно было для вечера, уже готовы были к приему гостей. В новом, чистом, светлом, убранном бюстиками и картинками и новою мебелью, кабинете сидел Берг о женою. Берг в новеньком, застегнутом мундире сидел возле жены, объясняя ей, что всегда можно и должно иметь знакомства людей, которые выше себя, потому что тогда только есть приятность от знакомств. — Переймешь что-нибудь, можешь попросить о чем-нибудь. Вот посмотри, как я жил с первых чинов (Берг жизнь свою считал не годами, а высочайшими наградами). Мои товарищи теперь еще ничто, а я на ваканции полкового командира, я имею счастье быть вашим мужем (он встал и поцеловал руку Веры, но по пути к ней отогнул угол заворотившегося ковра). И чем я приобрел всё это? Главное уменьем выбирать свои знакомства. Само собой разумеется, что надо быть добродетельным и аккуратным. Берг улыбнулся с сознанием своего превосходства над слабою женщиной и замолчал, подумав, что всё-таки эта милая жена его есть слабая женщина, которая не может постигнуть всего того, что́ составляет достоинство мужчины, — ein Mann zu sein.[509] Вера в то же время также улыбнулась с сознанием своего превосходства над добродетельным, хорошим мужем, но который всё-таки ошибочно, как и все мужчины, по понятию Веры, понимал жизнь. Берг, судя по своей жене, считал всех женщин слабыми и глупыми. Вера, судя по одному своему мужу и распространяя это замечание, полагала, что все мужчины приписывают только себе разум, а вместе с тем ничего не понимают, горды и эгоисты. Берг встал и, обняв свою жену осторожно, чтобы не измять кружевную пелеринку, за которую он дорого заплатил, поцеловал ее в середину губ.
XIX.
XX.