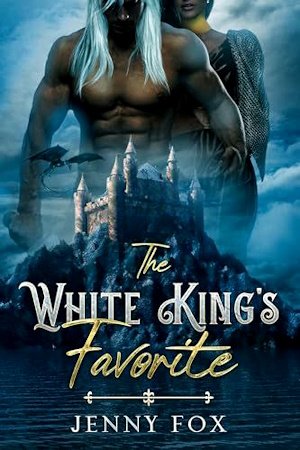— Перестаньте, мама, я и не думаю, и не хочу думать! Так, поездил и перестал, и перестал...
Голос ее задрожал, она чуть не заплакала, но оправилась и спокойно продолжала:
— И совсем я не хочу выходить замуж. И я его боюсь; я теперь совсем, совсем, успокоилась...
На другой день после этого разговора Наташа надела то старое платье, которое было ей особенно известно за доставляемую им по утрам веселость, и с утра начала тот свой прежний образ жизни, от которого она отстала после бала. Она, напившись чаю, пошла в залу, которую она особенно любила за сильный резонанс, и начала петь свои солфеджи (упражнения пения). Окончив первый урок, она остановилась на середине залы и повторила одну музыкальную фразу, особенно понравившуюся ей. Она прислушалась радостно к той (как будто неожиданной для нее) прелести, с которою эти звуки переливаясь наполнили всю пустоту залы и медленно замерли, и ей вдруг стало весело. «Что об этом думать много и так хорошо», сказала она себе и стала взад и вперед ходить по зале, ступая не простыми шагами по звонкому паркету, но на всяком шагу переступая с каблучка (на ней были новые, любимые башмаки) на носок, и так же радостно, как и к звукам своего голоса прислушиваясь к этому мерному топоту каблучка и поскрипыванию носка. Проходя мимо зеркала, она заглянула в него. — «Вот она я!» как будто говорило выражение ее лица при виде себя. — «Ну, и хорошо. И никого мне не нужно».
Лакей хотел войти, чтоб убрать что-то в зале, но она не пустила его, опять затворив за ним дверь, и продолжала свою прогулку. Она возвратилась в это утро опять к своему любимому состоянию любви к себе и восхищения перед собою. — «Что́ за прелесть эта Наташа!» сказала она опять про себя словами какого-то третьего, собирательного, мужского лица. — «Хороша, голос, молода, и никому она не мешает, оставьте только ее в покое». Но сколько бы ни оставляли ее в покое, она уже не могла быть покойна и тотчас же почувствовала это. В передней отворилась дверь подъезда, кто-то спросил: дома ли? и послышались чьи-то шаги. Наташа смотрелась в зеркало, но она не видала себя. Она слушала звуки в передней. Когда она увидала себя, лицо ее было бледно. Это был он. Она это верно знала, хотя чуть слышала звук его голоса из затворенных дверей.
Наташа, бледная и испуганная, вбежала в гостиную.
— Мама, Болконский приехал! — сказала она. — Мама, это ужасно, это несносно! — Я не хочу... мучиться! Что́ же мне делать?...
Еще графиня не успела ответить ей, как князь Андрей с тревожным и серьезным лицом вошел в гостиную. Как только он увидал Наташу, лицо его просияло. Он поцеловал руку графини и Наташи и сел подле дивана.
— Давно уже мы не имели удовольствия... — начала было графиня, но князь Андрей перебил ее, отвечая на ее вопрос и очевидно торопясь сказать то, что́ ему было нужно.
— Я не был у вас всё это время, потому что был у отца: мне нужно было переговорить с ним о весьма важном деле. Я вчера ночью только вернулся, — сказал он, взглянув на Наташу. — Мне нужно переговорить с вами, графиня, — прибавил он после минутного молчания.
Графиня, тяжело вздохнув, опустила глаза.
— Я к вашим услугам, — проговорила она.
Наташа знала, что ей надо уйти, но она не могла этого сделать: что-то сжимало ей горло, и она неучтиво, прямо, открытыми глазами смотрела на князя Андрея.
«Сейчас? Сию минуту!... Нет, это не может быть!» думала она.
Он опять взглянул на нее, и этот взгляд убедил ее в том, что она не ошиблась. — Да, сейчас, сию минуту решалась ее судьба.
— Поди, Наташа, я позову тебя, — сказала графиня шопотом.
Наташа испуганными, умоляющими глазами взглянула на князя Андрея и на мать, и вышла.
— Я приехал, графиня, просить руки вашей дочери, — сказал князь Андрей.
Лицо графини вспыхнуло, но она ничего не сказала.
— Ваше предложение... — степенно начала графиня. Он молчал, глядя ей в глаза. — Ваше предложение... (она сконфузилась) нам приятно, и... я принимаю ваше предложение, я рада. И муж мой... я надеюсь... но от нее самой будет зависеть...
— Я скажу ей тогда, когда буду иметь ваше согласие... даете ли вы мне его? — сказал князь Андрей.
— Да, — сказала графиня и протянула ему руку и с смешанным чувством отчужденности и нежности прижалась губами к его лбу, когда он наклонился над ее рукой. Она желала любить его, как сына; но чувствовала, что он был чужой и страшный для нее человек.
— Я уверена, что мой муж будет согласен, — сказала графиня, — но ваш батюшка...
— Мой отец, которому я сообщил свои планы, непременным условием согласия положил то, чтобы свадьба была не раньше года. И это-то я хотел сообщить вам, — сказал князь Андрей.
— Правда, что Наташа еще молода, но — так долго!
— Это не могло быть иначе, — со вздохом сказал князь Андрей.
— Я пошлю вам ее, — сказала графиня и вышла из комнаты.
— Господи, помилуй нас, — твердила она, отыскивая дочь. Соня сказала, что Наташа в спальне. Наташа сидела на своей кровати, бледная, с сухими глазами, смотрела на образа и, быстро крестясь, шептала что-то. Увидав мать, она вскочила и бросилась к ней.
— Что́, мама?... Что́?
— Поди, поди к нему. Он просит твоей руки, — сказала графиня холодно, как показалось Наташе... — Поди... поди, — проговорила мать с грустью и укоризной вслед убегавшей дочери, и тяжело вздохнула.
Наташа не помнила, как она вошла в гостиную. Войдя в дверь и увидав его, она остановилась. «Неужели этот чужой человек сделался теперь всё для меня?» спросила она себя и мгновенно ответила: «Да, всё: он один теперь дороже для меня всего на свете». Князь Андрей подошел к ней, опустив глаза.
— Я полюбил вас с той минуты, как увидал вас. Могу ли я надеяться?
Он взглянул на нее, и серьезная страстность выражения ее лица поразила его. Лицо ее говорило: «Зачем спрашивать? Зачем сомневаться в том, чего нельзя не знать? Зачем говорить, когда нельзя словами выразить того, что́ чувствуешь».
Она приблизилась к нему и остановилась. Он взял ее руку и поцеловал.
— Любите ли вы меня?
— Да, да, — как будто с досадой проговорила Наташа, громко вздохнула, другой раз, чаще и чаще, и зарыдала.
— О чем? Что̀ с вами?
— Ах, я так счастлива, — отвечала она, улыбнулась сквозь слезы, нагнулась ближе к нему, подумала секунду, как будто спрашивая себя, можно ли это, и поцеловала его.
Князь Андрей держал ее руки, смотрел ей в глаза, и не находил в своей душе прежней любви к ней. В душе его вдруг повернулось что-то: не было прежней поэтической и таинственной прелести желания, а была жалость к ее женской и детской слабости, был страх перед ее преданностью и доверчивостью, тяжелое и вместе радостное сознание долга, навеки связавшего его с нею. Настоящее чувство, хотя и не было так светло и поэтично как прежде, было серьезнее и сильнее.
— Сказала ли вам maman, что это не может быть раньше года? — сказал князь Андрей, продолжая глядеть в ее глаза.