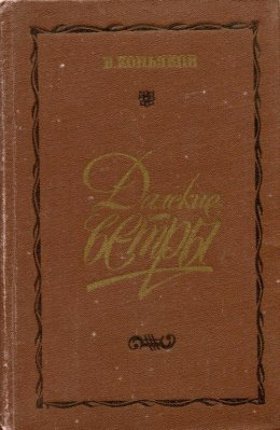Высоки, путаны кусты черемушника с тенью на воде, с редким еще цветом. Черемушник недоступен, глухой, непрореженный, а ведь растет рядом, у плетней, за избами, в сырой низине. Спокойна нагретая вода в безветрие.
Сергей идет по меже и видит Прасковью за кустами в солнечном закутке на досках, видит стираное белье в корыте, босые ее ноги. Нагревались и просыхали доски. Прасковья подняла руку с выжатым жгутом и локтем сняла пот с виска. Она была в холщовой безрукавке.
Сергею казалось, что она нежит ноги на досках. Застигнутая мужчиной, беспомощно сжимает коленки, будто они зябнут, и она прячет, предохраняет их от чужого взгляда. В долгой растерянности забыла опустить подоткнутую юбку.
— Смотри ты, где пригрелась, — удивился Сергей. — Над водой.
Он уже любил ее коленки, теневой взгляд из-под локтя. Она, не мигая, смотрела на него, и он понял, что не сможет сказать ей больше ничего. Прасковья улыбнулась.
— Тепло здесь, за черемухой. — Ее словно отпустило. — Хорошо… Смотрю на воду и плыву, как по небу… И дна нет под ногами. Воду колыхать не хочется. — И горестно произнесла: — Так хорошо… Взяла бы и сделала что-то нибудь… Назло всем…
Она наклонилась и начала полоскать белье, усиленно взбудораживая перед собой воду. Пальцы босых ног белели и отходили в движении, и под ними наливались мокрые следы. Так Прасковья ему и запомнилась. Вошла в него и не отпустила.
XIV
Вечером Сергей приходил с работы. Жена доила корову в сумерках стайки — неоформившегося красного первотелка. Что-то говорила ей нежное и ласковое. Сергей слушал разговор сыновей у тына. Сначала рассудительные наставления старшего:
— Митька, брось. Это белена. Съешь и сбесишься. Я тебе настоящий мак нарву.
Убегал в огород и приносил Митьке что-то в руке. Тот долго откусывал сверху твердую коронку, и из сизого бочонка выступали белые капли. Зеленая горечь обжигала губы, маковое молочко расписывало его руки и лицо.
Сергей находил Митьку под пыльными лопухами. Пыль с лопухов присыпала узоры макового молочка на лице, и они обозначались дегтярной чернотой. Эта чернота не отмывалась неделю. Из-под широких листьев озорно встречали отца широкие Митькины глаза, и казалось, только они оставались чистыми.
Отец вытаскивал Митьку за рубашку и, перевернув на весу, стряхивал ладошкой сухую пыль с его голой попки и тащил на верстак, сажал рядом с собой на стружки и начинал делать ему тележку. Приходила жена, останавливалась в стороне.
Сергей отпиливал от березового бревна колеса, выстругивал ось, маленькие оглобли и складывал все на Митькины коленки.
В это время Сергею хотелось увлечь ребятишек работой, любить жену. В приливе тревоги и благодарности хотелось снять с жены робость, растормошить вниманием. Митькино лицо при вечернем солнце в живописной пыли было теплым и нежным. Дуня смотрела на ребятишек, на работу мужа. Она была тиха и счастлива в своем неведении. И Сергей любил ее. Он торопил вечер, ждал ночи, и Дуня, с тайным предчувствием его нежности, спешила управиться с делами и, краснея на короткие мгновения в темноте, укладывала ребятишек спать. Сергей радовался приходу этих минут. Ночью он был умиротворен, а жена тихо смирела рядом. Потом говорила будто издалека:
— А Вагановы на пашне еще подсолнухи посеяли. Старик Прасковью и домой не отпускает. Сам-то иногда приезжает, а Прасковья одна на стане ночует. Как она не боится?.. Они загон хороший для коней сделали.
Воображение Сергея дорисовывало земляной пол, подметенный полынным веником, хомуты на штырях и смешливую горечь слов:
— Что ж ты, Сереж, для людей так стараешься? Будто хочешь пофорсить ими, а они тебя все подводят.
Сергей отгонял подступившие видения, а потом уходил, отдавался им, боясь выдать себя неосторожным дыханием. И было у него в это время к жене чувство доброты и жалости. Только желания ласки не было.
XV
Опустились сумерки. Отяжелела пыль на дороге. Отойдя от тихой и уже нахолодевшей реки, Сергей окунулся в парной воздух. Замерли луговая трава и кусты в молодой крапиве. Дорога от реки поднималась к светлому небу. Потемнели на горе силуэты изб. По косогору тянулись огороды с грядками капусты. Поэтому луговая низина от реки, неподвижная и еще прозрачная темень вечера казались обжитыми. После шума мельницы тихой была деревня. Под горой у озера звуки тяжело вытаскиваемых ног из тины остановили его. Он стал ждать, когда кто-то выйдет оттуда.
Сергей знал, как глубоко озеро, заросшее чапыгой по берегам. Вон и сейчас оно блеснуло стеклянным отражением. На холодной его глади черные столбики кольев, приткнувших рыбацкие байдонки ко дну.
«Не скотина ли увязла, — подумал Сергей. — Бьется».
В щетине озерной поросли ничего не было видно. Выбирая ногами твердую осыпь берега, Сергей пошел вдоль озера. Вскоре остановился у корзинки и увидел платок и спину в цветной кофте у самой воды.
— Эй, кто там, — окликнул Сергей. — Рыбу пугаешь, на ночь глядя.
— А!.. — женщина выпрямилась. — Так напужать можешь. Подкрался сзади.
Сергей узнал голос Прасковьи Вагановой. Она выходила из тины, раздвигая стену озерной травы. Сергей представил, как липка болотная зелень, как ползет она по ногам от коленок разъедающей слизью. Прасковья остановилась и босыми ногами переступала на траве в нетерпеливой брезгливости.
— Обмыть надо. Подступлюсь здесь к воде, нет?
Она подняла брошенные ботинки у корзины и спустилась к вытоптанной прогалинке в траве.
— А ты что ночами около крутишься? — слышится из травы ее голос. — С работы, что ль, идешь? Мы с Натальей за кислицей ходили. Она корову побежала доить, а я к озеру свернула. Вот Миньке ир[1] нарвала. Наказывал… С шишками.
Прасковья отломила остренький нарост от ребра ира.
— Видишь, какой столбик завязался. Миньку порадую… А я ир и сама люблю.
Прасковья стала укладывать охапку в корзинку под дужку, стараясь не сдавить смородину. Долго укладывала, словно что-то ожидала или собиралась с мыслями. Концы платка ее расшмыгнулись и петлей качались перед лицом. Зелень травы потемнела. Сумрачным гребнем ир скаймил озеро, и вода в нем стекольно блестела светом еще не взошедшего месяца и осеребрила ракитник на другом берегу.
Фигурка Прасковьи показалась Сергею маленькой и затерянной в безбрежности вечера, в неуюте, а забота ее о Миньке, который, наверное, выглядывает из ворот, ждет ее, — забота и эта любовь ее — единственной ценностью и теплотой в этом мире.
Прасковья стояла в нерешительном ожидании. Свалившийся узел косы — она его не заправляла — сделал ее домашней и доступной. Явившаяся в Сергее нежность поднялась холодком и сбила дыхание.
Прасковья уловила и почувствовала это в нем. Сергею передалась настуженность в непрогретой тине ее голых ног, ополоснутых в озере, и то, как они ощущают прикосновение ночи.
Сергея изумила охапка ира с белыми язычками корней, какая-то незамутненность души Прасковьи, желание ласки и добра. Ведь нужно же одной лазить здесь у края топи, чтобы принести счастье маленькому человеку и самой порадоваться. Одна в темноте, в неуюте для того только, чтобы ей улыбнулись.
— Не боялась одна ночью тут оступиться? — спросил Сергей. — В трех шагах глубина. Плавать-то умеешь?
— Нет… — Прасковья только сейчас подумала об этом и даже удивилась.
— Посмотри, где ходила. Там еще и сейчас пузыря под ряской лопаются.
Прасковью словно ознобило, она поежилась и заторопилась, подняла корзину и медленно пошла по краю озера к дороге. Коса, потерявшая связку, как живая, сползла с головы. Прасковья одной рукой пыталась удержать ее и заправить. Сергею коса ее казалась тяжелой. Хотелось потрогать ее ладонью, но непонятная нежность сдержала его. Показались первые избы. Было жалко вечера, озера, от которого холодным цветом блестело лицо Прасковьи. Что-то случилось с ними. Им вдруг обоим не захотелось уходить. Сдерживало желание медлить, хорошо чувствовать друг друга, думать о своем желании и не стесняться его. На горе было тепло. Деревня уже стала затихать в сумерках. Прасковья оглянулась и посмотрела вниз, на озеро.
— На меня всегда страх с опозданием находит, — поеживаясь от позднего воспоминания, сказала она. — На хуторе раз ночевала. Свекор спал или не спал — не знаю. На топчане молчал. Я глаз не могу сомкнуть, лежу. Луна стояла. Слышу, кто-то шуршит у тына. Потом вижу, большая голова тын раздвигает. Я смотрю на нее, как вот на тебя. Луна, видно все. А он не боится ничего, протиснулся в лаз и вышел на середину. На земляном полу стоит, не шевелится. Волк! Лапы, не поверишь, как бадейки, и когти видно, пол-то земляной. Седой весь, в серебре, под луной хорошо видно. А глаза, как уголья под ветром. Я и не знаю, что со мной было. Взяла и сказала: «Что смотришь? Вон… под кроватью»… Он и послушался. Тронулся, подлез под мою кровать, взял мешок с салом и убежал. Не поторопился даже. Свекор тоже не спал, только лежал, как без языка. А тут всполошился: «Зачем ему сало показала?» Он злится, а я хохочу. Не удержусь, и все. Даже и сейчас не пойму, смеялась я тогда или плакала. Это от страха, наверное. Но это позже… А когда на волка смотрела — и не боялась.