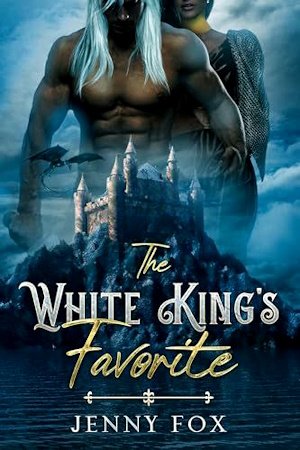Месяц тому назад, оставшись спать в столовой, на полу, где ему стелили сенник, Чернов умолял Соню прийти к нему, когда все заснут… Ночи были холодные. Сидеть в беседке, как они это делали весь июнь, было уже невозможно… Схватишь неизлечимую простуду. И что ей стоит! Пусть накинет капотик! Они поболтают, как друзья… Ему не спится…
Соня недолго колебалась. К поцелуям Чернова она уже привыкла. Это развлекало ее… В сущности, он был очень мил с нею! Разве он позволил себе хоть одну циничную фразу за эти два месяца их встреч? Хоть бы одну дерзкую ласку? Поцелуи его были нежны. Часто какой-то братский оттенок звучал в его голосе когда, гладя её пушистую головку, лежавшую его плече, он шептал: «Милая Соня… Дорогая деточка1» Он привык звать её «деточка» даже в присутствии Минны Ивановны. У него было мягкое сердце, жаждавшее привязанностей и только загрубевшее в омуте бродячей жизни провинциального артиста. Он искренно привязался к этой семье, находя здесь ласку и восхищение даже, действовавшее, как вино, на его израненную душу, уставшую от унижений и обид. Мысль жениться на Соне пришла ему внезапно, и он подолгу останавливался на ней. К чести Чернова, надо прибавить, что вначале никакие корыстные расчеты не руководили им. Они явились уже потом… И даже страсти он сначала не испытывал рядом с Соней. Но эта «дружба», слегка окрашенная флиртом, была необычайно дорога ему. В его жизни это была поэзия. Он тянулся к Соне всей душой, в болезненной жажде счастья… «Любовь чистого существа, непродажной женщины…» — всё то, что он мучительно желал в ту весну, когда произошло сближение Тобольцева с Катериной Федоровной, — всё то, чему он страстно завидовал в судьбе своего друга, осуществилось теперь в его отношениях с Соней. И сейчас он готов был бороться за завоеванные им блага. Он готов был даже низко поклониться ненавистной «Катьке», лишь бы его не лишили насиженного места в этой дорогой ему семье.
Случай изменил все. Оба они с Соней были слишком молоды и полны жизни, чтобы задремавшие на время инстинкты и тоска неудовлетворенности не толкнули их навстречу друг другу. Чернов правильно рассуждал, говоря Тобольцеву: «Она любит тебя. Но что можешь ей дать ты?.. А я под рукою…» Соня была чувственной натурой. Вся её пылкая страсть к Тобольцеву, все её гордые мечты принадлежать только ему, дождаться его охлаждения к жене, — разбивались о предательские ловушки её темперамента, её тоски… А ночи были так волшебны! А соловьи так дивно пели! И безумно было жаль молодости, которая угасала в бесплодных порывах!..
Она и сама не заметила своего сближения с Черновым, Он шаг за шагом, робко лаская её и искренно увлекаясь, шел к неизбежному. А Соня в острых чувствах стыда, страха и желания создавала себе пряные привычки; удовлетворяла если не потребность счастья, то жажду сильных ощущений.
Когда она, робея, но сгорая любопытством, пришла к нему в столовую в первый раз «поболтать», он начал молча целовать и ласкать ее. Они ни о чем не говорили. Она боялась протестовать, потому что мать спала рядом. На этот раз близость Сони и необычайная обстановка опьянили Чернова. А его страстный порыв околдовал девушку.
Она ещё не отдалась ему, но эта минута была близка.
Теперь Чернов был влюблен. Он сам не заметил, как эта девочка стала ему необходима. В свои ласки он влагал так много неподдельного огня, так много тонкости и поэзии; любовь его так одухотворила их отношения, что Соня чувствовала себя часто очарованной и бессильной, во всяком случае, отказать ему в этих свиданиях.
Чернов бросил пить, перестал кутить, и всё это очень выгодно отразилось на его наружности и манерах. Почти каждый вечер он приезжал в Сокольники, и его с волнением поджидали в маленькой даче.
Но в эту ночь Соня не вышла в столовую, хотя Чернов долго кашлял и громко вздыхал… Она лежала на спине, закинув за голову точеные ручки и, закрыв глаза, улыбалась воспоминаниям, улыбалась ощущениям, этому носившемуся ещё около её лица несравненному запаху губ и кожи Тобольцева. О, какое невыразимое блаженство поцелуй его! Как ничтожно все перед его даже беглой лаской!!
А Чернов плакал первыми жгучими слезами ревности.
X
Круто и быстро изменилась погода. И в конце августа семья Тобольцевых переехала в Москву. Все искренно жалели, что расстаются с Катериной Федоровной, и условились жить вместе каждое лето.
Но она сама рвалась в свое новое гнездо. В октябре ей предстояли роды, и последний месяц она уже потеряла силы. Нелегко было справляться с таким огромным хозяйством. Зато с какой любовью принялась она за устройство «гнездышка»! Квартиру она сняла на Пятницкой, чтобы быть ближе к Таганке. В одном из переулков ей приглянулась чистенькая квартира в шесть комнат: лучшая для Минны Ивановны, рядом столовая, гостиная, кабинет Тобольцева, где он устроил себе отдельную спальню, комната Катерины Федоровны и будущая детская. А пока её заняла Соня. Вместе с ванной это стоило тысячу рублей. Катерина Федоровна была в восторге от своей находки. Свекровь подарила молодым всю их роскошную обстановку с дачи… «Ух! — с облегчением подумал Тобольцев. — Остается потратиться только на плошки и горшки… Авось не разорюсь!»
Но он ошибался. Катерина Федоровна точно опьянела. Почти ежедневно она представляла ему счета: то полный прибор медных кастрюль и вообще кухонной посуды, стоившей баснословно дорого; то реестр столового белья; то счет из ботанического сада на пальмы, панданусы[199] и латании. «Теперь как раз случай купить их дешево…» — утешала она. Поминутно она входила, переваливаясь, в комнату матери с широким итальянским окном. Целуя её ручки, она спрашивала: «Не правда ли, как хорошо, мамочка? Сколько воздуха и света!..»
— Завтра я вам цветов куплю на окна и канарейку повешу, — сказала она матери, когда, наконец, все было готово.
— Лучше котенка, Катенька, достань мне серенького… Всю жизнь я о котятах мечтала… Да боялась тебя рассердить…
— Хорошо, мамочка! Достану вам полосатого котенка… Только будьте веселее!.. Не могу понять, почему вы грустите?..
Мужу она говорила:
— Андрей, нет человека счастливее меня! Я всегда мечтала, выйдя замуж, иметь с собой, мать и Соню. Вдали от них я не могу быть счастливой… Я знаю, что я сажаю тебе их на шею…
— Бог с тобой, Катя! Что ты говоришь?
— Нет, я знаю, что ты ангел! И за твою доброту к моим я люблю тебя ещё больше…
И у него не хватало духу огорчать её отказом в деньгах. Когда перед свадьбой он сказал ей, что у него от капитала остались пустяки и жить придется на жалованье, это её нисколько не огорчило.
— Ну, что ж? Будешь прирабатывать… Я хозяйка хорошая! Прекрасно проживем…
Соня тоже казалась счастливой, по крайней мере, первое время. Тобольцев был рядом, и жизнь стала прекрасной. Он брал её в театр, был очень ласков с нею, и Соня вероломно забыла о Чернове. Только одна Минна Ивановна осталась ему верна и скучала без него.
Через неделю в квартире объявился серый, полосатый, прелестный котенок. Соня и мать обожали его, Катерина Федоровна брезгливо гнала его из своей комнаты. Теперь она по целым дням, после моциона и хлопот по хозяйству, лежала на кушетке с романом в руках. Соня два раза в неделю с утра уходила на уроки и возвращалась только к обеду; иногда уходила и на вечерний урок к Конкиным, жившим в Замоскворечье. Тобольцев уезжал на службу, и в доме оставались только Катерина Федоровна и её мать. Часто теперь их навещала Анна Порфирьевна или Федосеюшка, почти каждый свой визит приносившая в подарок от «самой» фрукты, цветы или пирог. Нередко заходил Капитон, очень дороживший дружбой с «сестрицей». Иногда и Фимочка. Лиза приходила нечасто. Она отговаривалась делами. На самом деле ей было тяжело видеть Соню рядом с Тобольцевым. Она просто щадила себя.
Но теперь Катерина Федоровна не замечала этого отчуждения. Она была слишком полна собой, своим частым нездоровьем, предстоящими родами. Мир замкнулся для неё теперь в стенах этого гнезда, под крышей которого собрались все, кого она любила. К остальному она была глуха. И только факт отступления русских войск под Ляояном смутно дошел до её сознания. Капитона же это отступление невыразимо огорчило.
— Ну что ты, право? Точно пес скулишь! — сердито говорила ему Фимочка. — Ступай к Кате, что ли! Вместе поплачете. Глядеть на тебя тошно!..
Тобольцев скоро взял привычку проводить вне дома вечера. Он по-прежнему устраивал спектакли в пользу партий и учащейся молодежи, которая бедствовала, потому что, когда началась война, приток пожертвований прекратился. Катерина Федоровна относилась к этому равнодушно. Она уставала за день, любила рано лечь и не хотела стеснять мужа. Но Соня понесла жестокое разочарование. Тобольцева она видела только за обедом. Он пропадал на заседаниях, банкетах, а её тянуло в театры, на улицу на люди. Соня тогда вспомнила о своем поклоннике. И когда Чернов подстерег её в переулке, она так обрадовалась ему, что все упреки, которые он приготовил было, замерли на его губах… Она с наслаждением слушала слова любви, которых ждала её душа, изголодавшаяся среди прозы. Она радостно смеялась, когда он описывал ей муки ревности и тоску одиночества… Она отвыкла от него, и сердце её ёкало, когда она вспоминала его жгучие ласки… Он молил о свидании, сказал свой адрес, обещал выработать целый план встреч… В сущности, он совершенно не понимает, как могла она радоваться переезду в Москву! Попасть под начало сестрицы… Разве это не кабала?… «Ка-ба-лла…» — несколько раз повторил он, смакуя это слово… Она досадливо сдвинула брови. Было видно, что все его недостатки так и лезут ей в глаза!
Он обещал встречать её всякий раз у дома Конкиных. Обещал доставать контрамарки в театр.
— Передай, деточка, маме поклон! Скажи, что я у неё скоро буду…
— А Катя? — испуганно спросила Соня.
— Что Кат-тя? Вот-т ещё!.. Разве вы её креп-постны-е?.. Разве я не господин-н себе?… Вот-т ещё!.. Какая каб-ба-ла!..
Анна Порфирьевна предвидела, что двухсот рублей, которые Андрюша получал в банке, будет мало для жизни вчетвером, особенно когда родится маленький.
— Ужас, как плывут деньги! — сознался он ей. — Не успел занять пятьсот рублей, а уж опять ничего нет…
— Как занять??! Неужели векселя выдаешь? Почему ко мне не обратился?
— Совестно, маменька! Я этот год прямо ограбил вас… Но… получается какое-то нелепое положение. Кате хочется, чтобы в доме её была полная чаша… А я, малодушный, совершенно не умею отказать ей в деньгах! Отнять у неё эту невинную радость мне больно… Словно я её обокрал…
Анна Порфирьевна молчала, глубоко задумавшись.
— А не жалеешь ты теперь, Андрюша, о своем капитале? — вдруг тихо спросила она.
— Как можете вы это думать, маменька? Ведь вы же знаете, на что ушли мои деньги! И… будь у меня сейчас опять в руках капитал, неужели я, как Капитон, стал бы жить на проценты? И копить для семьи? Разве я изменился за эти два года?
Она радостно улыбалась, покачивая головой.
— Опять всё спустил бы?