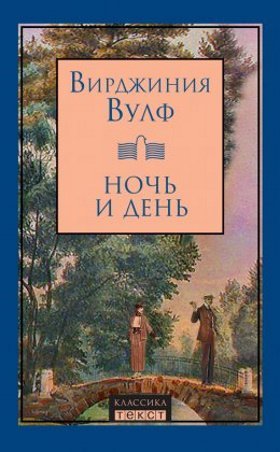И поскольку она не находила правильных слов, которые могли бы точно передать ее чувства, то повторяла их снова и снова с еще большей убедительностью, совсем не думая о том, какое впечатление они произведут на любящего мужчину. И для нее стало полной неожиданностью, когда он, со странно исказившимся лицом, вдруг выпустил ее руку. Неужели смеется? – мелькнула мысль, но в следующий миг она увидела слезы в его глазах. Она изумилась. В полном отчаянии, желая хоть как-то прекратить этот кошмар, она шагнула к нему, обняла – он покорно склонил голову ей на плечо – и повела за собой, что-то нашептывая, утешая. Наконец он вздохнул. Он шли молча, прижавшись друг к другу, и у нее по щекам тоже катились слезы. Заметив, что каждый шаг дается ему с трудом и ощущая странную тяжесть в теле, она предложила ему отдохнуть – нашлось и подходящее место под дубом, где курчавились бурые листья папоротника. Он согласился. Еще раз глубоко вздохнул, трогательным жестом, совсем как ребенок, утер слезы, и, когда он заговорил с ней, в его голосе не было и тени упрека. «Мы как дети из сказки, заблудившиеся в дремучем лесу», – подумала она, глядя на высокие кучи осенних листьев, наметенных ветром.
– Когда ты это впервые почувствовала, Кэтрин? – спросил он. – Потому что не может быть, чтобы так было всегда. Признаю, я погорячился в первый вечер, когда забыли твой сундук. Но разве это такая уж большая вина? Я обещаю, что больше ни слова не скажу о твоих платьях. Конечно, я разозлился, когда застал тебя наверху с Генри. Может, я повел себя не так, как надо. Но это же естественно, когда люди помолвлены. Твоя мать это подтвердит. А теперь это ужасное признание… – У него от волнения перехватило горло, но он продолжал: – Ты говоришь, что все поняла и решила – но ты с кем-нибудь об этом говорила? С матерью, например, или с Генри?
– Да нет же, конечно, нет, – сказала она, ероша сухие листья. – Но кажется, ты меня не понимаешь, Уильям…
– Так помоги понять…
– Я имею в виду: ты не знаешь, что на самом деле со мной происходит, да это и неудивительно, я и сама только начинаю понимать. Но только я уверена: без этого – без любви то есть, хотя точно не знаю, как назвать, – теперь она смотрела куда-то вдаль, на затуманенный горизонт, – в общем, без этого наш брак – сплошной фарс…
– Почему фарс? – спросил он. – Ты пытаешься все разложить по полочкам и только все портишь.
– Мне раньше надо было это сделать, – мрачно сказала она.
– Ты приписываешь себе то, чего нет, – продолжал он, жестикулируя, по своему обыкновению. – Поверь мне, Кэтрин, до того как мы приехали сюда, мы были совершенно счастливы. У тебя было столько планов о том, как украсить наш дом, – ты еще хотела чехлы для кресел, помнишь? – как всякая нормальная девушка, когда собирается замуж. И теперь, ни с того ни с сего, начинаешь придираться к чувствам – к своим, к моим, – и получается то же, что и всегда. Уверяю тебя, Кэтрин, я сам через все это прошел. Одно время я тоже задавал себе нелепейшие вопросы, из которых ровно ничего не следовало. И знаешь, когда накатит такое, на самом деле единственное, что нужно, – какое-то занятие, чтобы отвлечься. Если бы не моя поэзия, уверяю тебя, я бы сам умер от тоски. Открою секрет, – произнес он с усмешкой, которая на сей раз звучала немного странно. – Нередко после встреч с тобой я возвращался домой такой взвинченный, что приходилось по две-три страницы исписывать, иначе никак не удавалось выкинуть тебя из головы. Спроси хоть Денема, он расскажет, как он встретил меня однажды вечером, расскажет, в каком я был состоянии.
Кэтрин вздрогнула при упоминании фамилии Ральфа. Мысль о том, что Родни мог обсуждать ее с Ральфом, была крайне неприятна, но ей показалось, сейчас она не имеет права упрекать его, поскольку сама кругом перед ним виновата. Но Денем! Она так и видела его в роли судьи. Вот он с мрачным видом обдумывает все случаи ее ветрености на этом мужском суде женской нравственности и выносит страшный приговор ей и ее семейству одной фразой, исполненной тайного сарказма, которая, как ей теперь казалось, станет для нее вечным клеймом. Поскольку она совсем недавно с ним виделась, ей нетрудно было представить эту картину. Все это были мысли не очень приятные для гордой женщины, однако нужно учиться смирению. Кэтрин сидела насупившись, опустив глаза – пусть Уильям видит, как она умеет переносить обиду. Он и раньше любил ее не без опаски, к которой примешивался порой даже страх, а после помолвки он с удивлением стал замечать, что это ощущение страха даже усилилось. За ее спокойствием чувствовалась глубоко затаенная страсть, которая теперь казалась ему то загадочной, а то и вовсе непознаваемой, и на самом деле он даже предпочел бы ровное здравомыслие, которым всегда были отмечены их отношения. Но в ней была страстность, этого он не мог отрицать и потому заранее пытался найти для нее место в их будущей совместной жизни – например, лучше всего было бы направить ее на детей, которые у них родятся.
«Она будет замечательной матерью… сыновей», – думал он, но теперь, когда она сидела, замкнувшись в молчании, он уже и в этом не был так уверен. «Фарс. Она сказала, что наш брак был бы фарсом», – вспомнил он и вдруг увидел, что они сидят на пожухлой траве, среди опавших листьев, в каких-нибудь пятидесяти ярдах от проезжей дороги, так что любой прохожий может их заметить и узнать. Он постарался придать своему лицу такое выражение, чтобы никто не догадался, какую бурю эмоций он только что пережил. Но куда больше его беспокоила Кэтрин, которая по-прежнему сидела, уставившись в землю: что-то неправильное было в этой ее отрешенности. Как светский человек, он был весьма чуток к приличиям, касавшимся женщин, особенно если эти женщины имели какое-то отношение к нему. От его взгляда не укрылся и длинный черный локон, упавший ей на плечо, и несколько сухих листьев, приставших к одежде, но сейчас говорить ей об этом было бессмысленно. Казалось, для нее ничего вокруг не существует. Он подозревал, что она молчит, потому что ее мучат угрызения совести, но все же ему хотелось, чтобы она подумала и о прическе, и о налипших листьях. И действительно, эти пустяки, как ни странно, отвлекли его от собственных смутных переживаний, ибо облегчение, смешавшись с горечью, породило в его груди странное волнение, почти полностью заглушив терзавшее его прежде чувство сильнейшего разочарования. И чтобы унять беспокойство и положить конец этой нелепой и неподобающей сцене, он резко встал и помог Кэтрин подняться. Она едва заметно улыбнулась в ответ на старание, с которым он помогал ей приводить в порядок прическу и платье, но, когда он стал один за другим снимать со своего пальто сухие листья, вздрогнула, увидев в этом жесте трогательную беззащитность одинокого человека.
– Уильям, – сказала она, – я стану твоей женой. Я постараюсь сделать тебя счастливым.
Глава XIX
Уже смеркалось, когда двое других путников, Мэри и Ральф Денем, вышли на проезжую дорогу на окраине Линкольна. Они решили, что назад лучше возвращаться по большаку, а не напрямик по бездорожью, и первые пару миль почти не разговаривали. Ральф мысленно следовал по вересковым пустошам за экипажем семьи Отуэй; затем возвращался к тем пяти – десяти минутам, проведенным с Кэтрин, перебирая каждое слово с прилежанием ученика, корпеющего над латынью. Он полагал, что эта удивительная, яркая, окрашенная романтическими красками встреча никогда не станет для него всего лишь заурядным событием прошлого. Мэри же большей частью помалкивала, но то было не глубокомысленное молчание: голова ее была так же свободна от мыслей, как сердце – от чувств. Она понимала, что лишь присутствие Ральфа позволяет ей сдерживаться, и уже предвидела минуты одиночества, когда тысячи терзаний накинутся на нее и затянут в свой страшный круговорот. А пока ей надо было сохранить хотя бы малую долю самоуважения, сильно пошатнувшегося после того, как она случайным всплеском эмоций дала Ральфу понять, что влюблена в него. Вообще-то это было не так уж важно, однако она привыкла обращать внимание на то, как выглядит в собственных глазах, – на самом деле так безотчетно делают многие, – и ей казалось, что своим признанием она невольно унизила себя. Она приветствовала спускавшиеся на землю серые сумерки, окутавшие мглой поля и леса, – как все-таки хорошо, что скоро, очень скоро, уже в ближайшие дни, все пройдет, ей нужно только побыть в полном одиночестве, посидеть на опушке под деревом – и она успокоится. В синеватой дали она уже приметила тот самый холм и то самое дерево.
Когда Ральф вдруг заговорил, Мэри даже вздрогнула от неожиданности:
– Давеча за обедом нас прервали, а я как раз собирался сказать, что, если вы поедете в Америку, я тоже поеду. Заработать на жизнь там наверняка не сложнее, чем здесь. Дело в том, Мэри, что я хочу жениться на вас. Что скажете?
Он говорил уверенно и, не дожидаясь ответа, взял ее за руку.
– Вы обо мне теперь все знаете: и хорошее, и дурное, – продолжал он. – Вы знаете мой характер. Я постарался рассказать о своих недостатках. Так что скажете, Мэри?
Она не ответила, но, казалось, это не смутило его.
– По крайней мере, как вы сказали, мы знаем друг о друге самое главное, и взгляды наши во многом сходятся. Я уверен, вы единственный в мире человек, с кем я могу быть счастлив. Если вы чувствуете то же, что и я – а это ведь так, Мэри? – мы можем быть счастливы вместе.
Он замолчал, он не торопил ее с ответом и, казалось, погрузился в раздумья.
– Боюсь, я не могу этого сделать, – наконец сказала Мэри.
Она произнесла это совершенно обыденным тоном и с излишней поспешностью, и эта интонация, и ее слова, прямо противоположные тому, что он ожидал услышать, настолько его поразили, что он отпустил ее руку.
– Не можете?.. – спросил он.
– Нет, я не могу выйти за вас замуж, – ответила она.
– Я вам безразличен?
Она промолчала.
– Что ж, я, должно быть, просто глупец, поскольку думал иначе, – произнес он со странным смешком.
Пару минут они шли в молчании. Затем он вдруг повернулся к ней и воскликнул:
– Я вам не верю! Вы обманываете меня.
– Я слишком устала, чтобы спорить, Ральф, – ответила она, отворачиваясь. – Пожалуйста, просто поверьте тому, что я сказала. Я не могу, не хочу выходить за вас замуж.
Ее голос был исполнен бесконечной муки. Когда Мэри умолкла, он взял себя в руки и подумал, что, вероятно, она сказала правду, он был слишком самоуверен – и неудивительно, что она ему отказала. Уныние Ральфа сменилось полным отчаянием. Вся его жизнь была провалом. Он потерпел неудачу с Кэтрин, а теперь и с Мэри. Вспомнив о Кэтрин, он вдруг воспрял духом и порадовался свободе, но тут же одернул себя. Он никогда не видел от Кэтрин ничего хорошего; все, что их связывало, существовало лишь в его воображении, и при мысли о полной беспочвенности этих фантазий он начал винить в нынешней катастрофе собственные мечты.
«И зачем только я думал о Кэтрин, когда был рядом с Мэри? Я полюбил бы Мэри, если б не эти мои идиотские мечтания. Наверняка она меня любила, но своим легкомыслием я заставил ее страдать и оборвал последнюю нить надежды – теперь она ни за что не решится выйти за меня. Я сам разрушил свою жизнь, теперь она пуста».
Звук их шагов по высохшей дороге вторил его мыслям: пуста, пуста, пуста. Мэри решила, что, раз он молчит, значит, ему полегчало: его огорчили, как она думала, встреча и расставание с Кэтрин, которая осталась с Уильямом Родни. Она не могла осуждать его за чувства к Кэтрин, но то, что он осмелился сделать ей предложение, тогда как на самом деле любил другую, – это было жесточайшим предательством. Их старая дружба, основанная на взаимном уважении, была разрушена. Собственное прошлое казалось ей одной большой глупостью, сама она была слабой и легковерной, Ральф же только притворялся честным человеком. Прошлое – так много в нем было связано с Ральфом, что обернулось ложью и фальшью, – оказалось на поверку совсем не таким, каким она его себе представляла. Она попыталась вспомнить фразу, которая нынче днем помогла ей прийти в себя, пока Ральф расплачивался с официантом; но она отчетливо видела его лицо в тот момент – и не могла вспомнить слова. Что-то насчет истины, и что она дает нам надежду…
– Если вы не хотите выходить за меня замуж, – Ральф заговорил вновь, но уже не так уверенно, скорее даже робко, – это ведь не значит, что мы не можем видеться, верно? Или вы предпочли бы в будущем избегать встреч?
– Избегать? Не знаю… Мне нужно подумать.
– Только скажите мне, Мэри, – продолжил он, – не сделал ли я что-нибудь, что изменило ваше мнение обо мне?
Задумчивый и печальный тон его голоса чуть не заставил ее довериться ему, как прежде, – рассказать, что любит его и почему все стало так невозможно. То, что она все еще сердится на него, – это ничего, она смогла бы перебороть обиду, однако уверенность в том, что он не любит ее, которую только укрепила та деловитость, с которой он сделал ей предложение, мешала всякой искренности. И что бы он сейчас ни сказал, ей нечего ему ответить – нет сил, – и это так мучительно, что лучше бы он оставил ее в покое. Конечно, более покладистая женщина на ее месте воспользовалась бы этой возможностью объясниться, не думая о последствиях; но для девушки с таким твердым и непреклонным характером, как у Мэри, сама эта мысль была равнозначна падению; даже в момент наивысшего накала чувств она не могла забыть о том, что считала единственно правильным. Ее молчание не давало покоя Ральфу. Он напрягал память, пытаясь вспомнить слова или поступки, которые могли разочаровать ее в нем. Примеры не заставили себя ждать, и наихудшим было последнее доказательство его низости: то, что он просил ее руки так самоуверенно и хладнокровно.
– Можете не отвечать, – мрачно проговорил он. – Я знаю, причин много. Но, Мэри, неужели это разрушит нашу дружбу? Позвольте мне сохранить хотя бы ее.
«Увы, – подумала она, и боль вдруг нахлынула на нее, грозя уничтожить остатки самоуважения, – вот к чему мы пришли, а ведь я могла отдать ему все, все!»
– Да, мы можем остаться друзьями, – сказала она так твердо, как только смогла.
– Я хочу, чтобы мы остались друзьями. Пожалуйста, позвольте мне видеть вас, когда сочтете возможным, – добавил он. – Чем чаще, тем лучше. Мне понадобится ваша помощь.