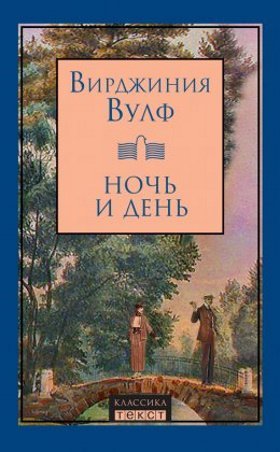– Мэри! – воскликнул он, внезапно поняв, что был к ней чудовищно несправедлив и слишком многого требовал. – Простите меня. Я вел себя как последняя скотина.
Она едва сдерживалась, чтобы не разрыдаться, чуть не сказала, что прощает его, раз уж ему так хочется. Не сделала же она этого только потому, что иначе не могла бы себя уважать: это упрямое чувство собственного достоинства не позволяло ей сдаваться даже в минуты самых сильных страстей. Вот и сейчас, когда вокруг ярится буря и дыбятся волны, она помнит про спасительный берег, где безмятежное солнце сияет над итальянской грамматикой и аккуратными папками подшитых бумаг. Однако мертвенная бледность тех крепких и надежных скал не оставляла никаких сомнений: жизнь ее там будет невыносимо сурова – и бесконечно одинока. Тем не менее она не сбавляла шага и по-прежнему уверенно шла впереди. Путь их лежал мимо рощицы – узкой полоски леса на краю обрыва, за которым шла низина. За редкими стволами Ральф разглядел у подножия холма идеально ровный зеленый луг, а на нем серый усадебный дом с прудами и террасами, аккуратно подстриженные кусты, сбоку что-то вроде хозяйственной постройки, позади щетка из высоких елей, – этакий отгороженный от мира уголок, уютный и самодостаточный. За домом местность снова резко повышалась, так что роща на дальнем холме словно парила в небе, сиявшем чистой лазурью меж голых стволов. Тут его мысли почему-то опять вернулись к Кэтрин, и он вдруг явственно, почти физически ощутил ее присутствие – как будто и серый дом в низине, и лазурное небо были неразрывно связаны с ней и невольно вызвали в его сердце ее образ. Он без сил прислонился к стволу, и с губ само собой слетело ее имя.
– Кэтрин, Кэтрин! – твердил он и, лишь поняв, что, вероятно, произнес это вслух, огляделся вокруг.
Мэри не спеша шла вдоль опушки, целиком поглощенная новым занятием: она тянула за собой, сдирая с дерева, тонкую длинную плеть вьюнка. И это зрелище так разительно отличалось от образа, стоявшего перед его мысленным взором, что он поспешил отмахнуться от него. «Кэтрин, Кэтрин», – твердил он как зачарованный, и казалось, эти слова волшебным образом приближают его к ней. В этот миг он забыл обо всем вокруг: все, что в мире было важного, – время суток, его планы и намерения, присутствие других людей, в здравомыслии которых он рассчитывал обрести поддержку, – все в этот момент перестало для него существовать. Как будто земля вдруг ушла у него из-под ног, и он погрузился в сверкающую синеву, где самый воздух сгущался, пронизанный присутствием одной-единственной женщины. Пение малиновки, усевшейся на ветке прямо у него над головой, вернуло его к реальности, правда, возвращение это сопровождалось печальным вздохом. Вот мир, в котором он обречен существовать: голое поле, унылая, пустынная дорога за ним и Мэри, сдирающая плющ с деревьев…
Нагнав девушку, он взял ее под руку и сказал:
– Так что там насчет Америки, Мэри?
В его голосе слышалось почти братское участие, что стало для нее приятной неожиданностью, после того как он оборвал свои признания и совершенно не заинтересовался ее планом. Она постаралась так и эдак намекнуть ему, что рассчитывает получить пользу от заокеанского путешествия, не упомянув лишь об одном и самом важном обстоятельстве, подтолкнувшем ее к этому решению. Он слушал со вниманием и не пытался ее отговорить. На самом деле ему очень хотелось убедиться, что это действительно здравая мысль, и потому он с радостью выслушивал каждое новое тому подтверждение, как будто это помогало ему самому на что-то решиться. Она уже забыла о недавней обиде, и так хорошо было шагать рядом с ним, опираясь на его руку, что она чувствовала себя почти счастливой. И это ощущение было тем более приятным, что казалось достойной наградой за ее решение держаться с ним просто и естественно, оставив все попытки казаться не той, какая она на самом деле. Вместо того чтобы изображать интерес к поэзии, она теперь старалась избегать этой темы и больше напирала на практическую сторону своих талантов.
И вот, держась этой практической линии, она и завела разговор о сельском домике – хотя Ральф о нем едва ли думал всерьез, – обращая его внимание на подробности, о которых он не имел ни малейшего представления.
– Первым делом нужно убедиться, что там есть вода, – говорила она так, словно это было самым важным.
Она не спрашивала его, что он собирается делать в сельской глуши, и в конце концов, когда все мелочи перебрали, ее терпение было вознаграждено, потому что он произнес, очень доверительно.
– В одной из комнат, – сказал он, – будет мой кабинет, потому что, знаете ли, Мэри, я собираюсь писать книгу. – С этими словами он высвободил руку, раскурил трубку, и они зашагали рядом как добрые товарищи, с чувством спокойного молчаливого взаимопонимания, какого еще не было между ними за всю их долгую дружбу.
– А о чем будет ваша книга? – спросила она отважно, как будто тема книг ничуть ее не пугала.
Он с готовностью поведал ей о том, что хочет написать труд по истории английской деревни от саксонских времен до наших дней. На самом деле он давно уже подумывал о чем-то в этом роде, но только теперь, когда внезапно решил отказаться от своей профессии, эта зачаточная идея за какие-то двадцать минут окрепла и расцвела пышным цветом. Он и сам подивился тому, как уверенно говорит об этом. То же самое происходило и с домиком. Он тоже вдруг обозначился четко и зримо, притом в совершенно не романтическом виде: этакий беленький кубик у столбовой дороги и конечно же сосед с поросенком и дюжиной вопящих ребятишек мал мала меньше – ибо эти планы для него были настолько лишены всяческой романтики, что получать от них удовольствие он мог, лишь перебирая самые прозаические детали. Так умный человек, которому не досталось по наследству прекрасное имение, меряет шагами свой убогий надел и уверяет себя, что жизнь хороша и на этом пятачке, а вместо дынь и гранатов вполне можно выращивать капусту и репу. Ральф даже гордился тем, как удачно вывернулся, и то, что Мэри поверила ему, прибавляло ему уверенности. Мэри меж тем ловко обвивала плющом самодельный ясеневый посох. Впервые за много дней она не чувствовала неловкости наедине с Ральфом, не думала о том, что лучше сказать и как себя вести, и просто наслаждалась безоблачным счастьем.
Так, за мирной беседой, когда равно легко и говорить и молчать, лишь изредка останавливаясь полюбоваться красивыми видами, открывающимися поверх зеленой изгороди, или чтобы разглядеть, что там за серенькая птичка скачет в ветвях, они вскоре добрались до Линкольна. Там, прогулявшись из конца в конец по центральной улице, они заметили трактир, арочное окно которого явно указывало на солидность заведения, и не ошиблись в выборе. И действительно, на протяжении последних полутора веков, а то и больше многие поколения сельских джентльменов подкрепляли здесь свои силы доброй порцией жаркого с картошкой и прочими овощами, а также яблочным пудингом, так что теперь Ральф и Мэри, усевшись за столик возле эркерного окна, присоединились к этому непреходящему пиршеству. Посреди обеда, поглядывая на Ральфа поверх тарелки, Мэри подумала: сможет ли он стать хоть немного похожим на остальных – тех, кто сидит в этом зале? Будет ли он когда-нибудь не столь разительно выделяться на фоне круглолицых румяных селян в костюмах в черно-белую клетку и лоснящихся кожаных крагах для верховой езды? Верилось с трудом, потому что, как ей казалось, он видит себя другим. А ей бы не хотелось, чтобы он слишком уж отличался от остальных. От прогулки на свежем воздухе его лицо раскраснелось, во взгляде была такая уверенность и прямота, от которой простому крестьянину станет не по себе, а истинный служитель веры, пожалуй, даже заподозрит насмешку над религиозными чувствами. Ей нравился его высокий, словно утес, лоб – как у юного древнегреческого возницы, который так туго натягивает поводья, что чуть не весь запрокинулся назад. Он был словно всадник на норовистом скакуне. И то, что она рядом с ним, добавляло остроты ее ощущениям, потому что он был непредсказуем. И теперь, сидя против него за столиком в оконной нише, она почувствовала себя так легко и свободно, как это уже было с ней недавно у калитки, однако на сей раз это сопровождалось приятным сознанием того, что все делается правильно, потому что – она это знала точно – их обоих объединяло чувство, которое не требовалось облекать в слова. Как красноречиво было его молчание! Время от времени он подпирал голову рукой, затем смотрел невидящим взором на двух мужчин за соседним столиком, сидевших к ним спиной, и делал это так естественно, что она почти видела, как в его голове одна мысль сменяется другой, – она была уверена, что проследит за ходом его мыслей, даже если прикроет глаза ладонью, – и уже предчувствовала миг, когда он подведет итог долгим размышлениям и, повернувшись к ней, скажет: «Ну что, Мэри?» – приглашая ее подхватить нить его мысли.
И в тот же миг он обернулся к ней и сказал:
– Ну что, Мэри? – со странной робостью, которая так ей нравилась.
Она рассмеялась и, понимая, что не стоит смеяться в самый ответственный момент, поспешила объяснить: ее позабавили люди на улице. Действительно, под окном остановился автомобиль с пожилой дамой, закутанной в голубые шали, и служанкой на сиденье напротив, державшей на руках той-спаниеля; прямо посереди дороги женщина, с виду крестьянка, катила тележку с хворостом, и какой-то бейлиф [63] в крагах обсуждал состояние рынка домашнего скота со священником, а тот с ним не соглашался.
Она перечислила их всех – сейчас она готова была нести любую чушь, и пусть он сочтет ее глупой. И в самом деле, то ли от жары в помещении, то ли от хорошо прожаренного ростбифа, а может, оттого, что Ральф, что называется, «принял решение», но он, похоже, перестал искать в ее словах здравый смысл, логику и прочие признаки большого ума. Мысли его, громоздясь одна на другую, образовывали сейчас некое шаткое и причудливое сооружение вроде китайской пагоды, состоящее наполовину из фраз, оброненных селянами в крагах, наполовину из обрывков собственных мыслей: что-то об утиной охоте, что-то о римском завоевании Линкольна и об отношении сельских джентльменов к своим женам, – но внезапно из этого несвязного вздора вынырнула одна мысль: ему следует жениться на Мэри. Эта мысль была такой неожиданной, что, казалось, появилась сама собой. И в этот момент он повернулся, и с языка слетела привычная фраза:
– Ну что, Мэри?..
Эта идея, как он ее себе поначалу представлял, была такой новой и интересной, что он почти решился сразу же рассказать о ней Мэри. Однако старая привычка делить все свои мысли на две группы, прежде чем обращаться к ней, пересилила. Но пока она смотрела в окно и описывала ему пожилую даму в голубом, тетку с коляской, бейлифа и спорщика-священника, его глаза невольно наполнились слезами. О, если бы можно было положить голову ей на плечо и выплакаться всласть, а она бы нежно гладила его по волосам, приговаривая: «Ну-ну, успокойся! Расскажи лучше, кто тебя обидел…» – и они бы сидели, тесно прижавшись друг к другу, и она обнимала бы его, как обнимала когда-то матушка. Он понял, что страшно одинок и что боится людей в этом зале.
– Как все это гадко! – вырвалось у него вдруг.
– О чем это вы? – спросила она без особого интереса, пристально глядя в окно.
Почему-то ее безразличие возмутило его, хотя что толку возмущаться, ведь она, считай, на полпути в Америку…
– Мэри, – сказал он, – мне надо с вами поговорить. Мы ведь уже поели, почему же не уносят тарелки?
Мэри, даже не глядя на него, поняла, что он волнуется, и, похоже, догадывалась, что он хочет ей сказать.
– Заберут еще, всему свое время, – сказала она, и, желая показать, что она-то совершенно спокойна, приподняла солонку и смела крошки в кучку.
– Я должен извиниться, – продолжал Ральф, еще не зная толком, что скажет: странно, но он чувствовал, что должен сейчас же довериться ей решительно и бесповоротно, пока не исчез этот удивительный момент близости. – Я понимаю, что очень дурно с вами обошелся. То есть я хочу сказать, что я вам солгал. Вы ведь догадывались, что все это ложь? И тогда, на Линкольнз-Инн-Филдс, и сегодня во время нашей прогулки. Я обманщик, Мэри. Знали вы об этом, Мэри? И вообще, хорошо ли вы меня знаете?
– Думаю, да, – ответила она.
В этот момент официант забрал у них тарелки.
– Правда то, что я не хочу отпускать вас в Америку, – сказал он, не сводя глаз с солонки. – На самом деле то, что я к вам чувствую, ужасно и даже оскорбительно. – Он говорил негромко, стараясь сдержать волнение. – Если бы я не был таким самонадеянным идиотом, я бы посоветовал вам держаться от меня подальше. И все же, Мэри, несмотря на то что у меня относительно себя нет иллюзий, я все равно считаю, что нам стоит получше узнать друг друга, – такова жизнь, не правда ли? – Он кивком указал на присутствующих в зале. – Потому что, разумеется, в идеале, и даже в более приличном окружении, вам точно не следовало бы связываться со мной – всерьез, я имею в виду.
– Но ведь и я тоже не идеальный человек, – сказала Мэри тихо и раздумчиво, но, хотя говорила она еле слышно, за столиком воцарилось такое напряжение, что другие посетители трактира почувствовали это и уже поглядывали на них со смешанным чувством жалости, умиления и любопытства. – Я очень эгоистична – больше, чем вы думаете, и я гораздо более прозаична. Мне нравится командовать – вероятно, это самый большой мой недостаток. И, в отличие от вас, у меня нет этой беззаветной любви… – тут она вдруг запнулась и, мельком глянув на него, словно желая уточнить, о какой именно любви идет речь, – …к истине, – договорила она, как будто нашла наконец то, что искала.
– Я уже говорил вам, что я лжец, – упрямо повторил Ральф.
– Да, но только в мелочах, – возразила она нетерпеливо. – Не в серьезных делах, вот что важно. Смею предположить, в мелочах я честнее вас. И все же я бы не смогла любить, – она сама удивилась, что произнесла это слово, хотя было непросто, – того, кто лжет в главном. Я ценю правду, и очень даже, но не так, как вы. – Ее голос становился все тише и тише и, наконец, дрогнул, прервавшись: она едва удерживалась от рыданий.
«Боже мой! Она меня любит! – догадался вдруг Ральф. – Как же я раньше этого не замечал? Она вот-вот расплачется!»
Эта догадка поразила его; кровь бросилась ему в голову, и, хотя минуту назад он чуть было не попросил ее руки, мысль о том, что она его любит, казалось, все изменила, и теперь он уже не мог этого сделать. Он не осмеливался даже смотреть на нее. Если бы она заплакала, он не знал бы, чем ее утешить. Ему казалось, что произошло нечто ужасное, непоправимое. Официант снова переменил тарелки.
В волнении Ральф встал и, отвернувшись от Мэри, уставился в окно. Люди на улице казались ему распадающимися и складывающимися вновь фрагментами головоломки, это было очень похоже на картину его собственных мыслей и чувств, точно так же возникавших и распадавшихся в его голове. То он бурно радовался тому, что Мэри его любит, а в следующий миг ему казалось, что он ничего к ней не чувствует, и более того, ее любовь была ему неприятна. То ему хотелось тотчас жениться на ней, то бежать без оглядки и больше никогда ее не видеть. Чтобы как-то обуздать эти беспорядочно скачущие мысли, он заставил себя прочесть надпись на витрине аптеки прямо напротив, затем рассмотрел склянки под стеклом, затем обратил взор на небольшую группу женщин, разглядывающих большую витрину мануфактурного магазина. Кое-как ему удалось взять себя в руки, и он уже собрался было обернуться и попросить у официанта счет, как вдруг заметил высокую фигуру, быстро движущуюся по другой стороне тротуара, – высокую, стройную, с горделивой осанкой, и так странно было видеть ее в этом непривычном окружении. В левой руке она держала перчатки. Все это Ральф заметил и узнал даже раньше, чем всплыло имя, давшее всему этому название: Кэтрин Хилбери. Казалось, она ищет кого-то. И действительно, она оглядывалась по сторонам, и в какой-то миг ее взгляд скользнул по эркерному окну, за которым стоял Ральф, но она тотчас отвернулась, так что ему оставалось лишь гадать, заметила она его или нет. Это нежданное видение произвело на него сильное впечатление. Словно он узрел некий образ, вызванный к жизни одной силой мысли и сотканный из мечты, а не живую женщину из плоти из крови, спешащую куда-то по другой стороне улицы. Но при этом он вовсе не думал о ней. Впечатление было настолько сильным, что он не мог от него ни отмахнуться, ни даже разобраться, действительно ли ее он видел или то было наваждение.
Ральф опустился на стул и сказал отрывисто, обращаясь скорее к себе самому, а не к Мэри:
– Это была Кэтрин Хилбери.
– Кэтрин Хилбери? О чем это вы? – спросила она, поскольку не поняла, что он говорит об увиденном за окном.
– Кэтрин Хилбери, – повторил он. – Но ее уже нет.