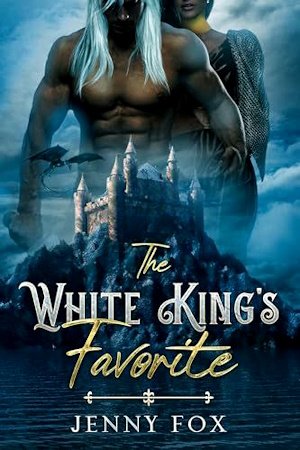— Но они говорили при мне, точно я мул и человеческих слов не понимаю, точно я какой африканец и не знаю, о чем они толкуют, — сказал Питер, шумно шмыгнув носом. — И они обозвали меня ниггером, а меня еще ни один белый не называл ниггером, да еще обозвали вашим старым псом и сказали, что ниггерам доверять нельзя! Это мне-то нельзя доверять! Да ведь когда старый полковник умирал, что он сказал мне? «Слушай, Питер! Приглядывай за моими детьми. И позаботься о нашей мисс Питтипэт, — сказал он, — потому как ума у нее не больше, чем у кузнечика». И разве плохо я о ней заботился столько лет…
— Сам архангел Гавриил не мог бы о ней лучше заботиться, — стремясь успокоить его, сказала Скарлетт. — Мы бы просто пропали без тебя.
— Да уж, мэм, премного благодарен вам, мэм. Я-то это знаю, и вы знаете, а вот янки не знают и знать не хотят. Ну, чего они нос в наши дела-то суют, мисс Скарлетт? Они же не понимают нас, конфедератов.
Скарлетт промолчала, ибо ею все еще владел гнев, который она не смогла излить на женщин-янки. Так, в молчании, они и поехали дальше домой. Питер перестал шмыгать носом, зато его нижняя губа начала вытягиваться, пока не опустилась чуть не до подбородка. Теперь, когда первая обида немного поутихла, в нем стало нарастать возмущение.
А Скарлетт думала: какие чертовски странные люди эти янки! Те женщины, видно, считали, что раз дядюшка Питер черный, значит, у него нет ушей, чтобы слышать, и нет чувств, столь же легко ранимых, как у них самих. Янки не знают, что с неграми надо обращаться мягко, как с детьми, надо наставлять их, хвалить, баловать, журить. Не понимают они негров, как не понимают и отношений между неграми и их бывшими хозяевами. А ведь они вели войну за то, чтобы освободить негров. Теперь же, освободив, не желают иметь с ними ничего общего — разве что используют их, чтобы держать в страхе южан. Они не любят негров, не верят им, не понимают их и, однако же, именно они кричат о том, что южане не умеют с ними обращаться.
Не доверять черным! Да Скарлетт доверяла им куда больше, чем многим белым, и, уж конечно, больше, чем любому янки. У негров столько преданности, столько бескорыстия, столько любви — никаким кнутом этого из них не выбьешь, никакими деньгами не купишь. Скарлетт вспомнила о горстке верных слуг, которые остались с ней в Таре, когда в любую минуту могли нагрянуть янки, хотя никто не мешал им удрать или присоединиться к войскам и вести привольную жизнь. Но они остались. Скарлетт вспомнила о Дилси, собиравшей хлопок в полях вместе с ней, о Порке, рисковавшем жизнью, залезая в соседские курятники, чтобы накормить их семью; о Мамушке, ездившей с ней в Атланту, чтобы уберечь ее от беды. Она вспомнила о слугах своих соседей, которые оставались дома, оберегая своих хозяек, пока мужчины сражались на фронте, и как они бежали с хозяйками, терпя все ужасы войны, выхаживали раненых, хоронили мертвых, утешали пострадавших, трудились, клянчили, воровали, чтобы в господском доме на столе всегда была еда. Даже сейчас, несмотря на все чудеса, обещанные Бюро вольных людей, они не уходили от хозяев и трудились куда больше, чем когда-либо во времена рабства. Но янки не понимают этого и никогда не поймут.
— А ведь именно они сделали тебя свободным, — громко произнесла она.
— Нет, мэм! Они меня свободным не сделали. Я бы в жизни не позволил этакой падали делать меня свободным, — возмущенно произнес Питер. — Все равно я принадлежу мисс Питти, и, когда помру, она похоронит меня на семейном кладбище Гамильтонов, где у меня есть место… Да уж моя мисс крепко рассердится, когда я расскажу ей, как вы позволили этим женам янок оскорблять меня.
— Ничего я им не позволяла! — от удивления невольно повысила голос Скарлетт.
— Нет, позволили, мисс Скарлетт, — сказал Питер, еще дальше выпячивая губу. — Ни вам, ни мне нечего было останавливаться с этими янками, чтоб они оскорбляли меня. Не беседовали бы вы с ними, они и не назвали бы меня мулом или там африканцем. И не защищали вы меня тоже.
— Как это не защищала! — воскликнула Скарлетт, глубоко уязвленная его словами. — Разве я не сказала им, что ты — член нашей семьи?
— Какая же это защита? Вы просто сказали правду, — заявил Питер. — Мисс Скарлетт, не должны вы иметь дело с янками, нечего вам с ними знаться. Никакая другая леди так себя не ведет. Мисс Питти, к примеру, даже своих маленьких туфелек об такую падаль не вытерла бы. Нет, не понравится ей, когда я расскажу, что они про меня говорили.
Осуждение Питера Скарлетт восприняла гораздо болезненнее, чем все, что говорили Фрэнк, или тетя Питти, или соседи, — ей это было настолько неприятно, что захотелось схватить старого негра и трясти до тех пор, пока его беззубые десна не застучат друг о друга. Питер сказал правду, но ей неприятно было слышать это от негра, да к тому же от своего, домашнего. Когда уж и слуги недостаточно высокого о тебе мнения — большего оскорбления для южанина нельзя и придумать.
— Старый пес! — буркнул Питер. — Я так думаю, мисс Питти больше не захочет, чтобы я после этого вас возил. Нет, мэм!
— Тетя Питти захочет, чтобы ты возил меня по-прежнему, — решительно заявила Скарлетт, — так что давай не будем больше об этом говорить.
— Со спиной у меня худо, — мрачно предупредил ее Питер. — Так она как раз сейчас болит, что я едва сижу. А моя мисс не захочет, чтоб я разъезжал по городу, когда мне так худо… Мисс Скарлетт, ничего хорошего не будет, ежели вы с янками и со всякой белой нечистью поладите, а близкие от вас отвернутся.
Вывод был очень точный, и Скарлетт, хоть все еще и кипела от ярости, умолкла. Да, победители одобряли ее и ее семью, а соседи — нет. Она знала все, что говорили о ней в городе. А теперь вот и Питер ее не одобряет — даже не хочет, чтоб его видели с ней. Это уж была последняя капля.
До сих пор ей было безразлично общественное мнение, она не обращала на него внимания и даже относилась к нему с легким презрением. Но слова Питера разожгли в ее душе горькую обиду, вызвали желание обороняться, породили неприязнь к соседям — совсем как к янки.
«Ну, что им до того, как я поступаю? — подумала она. — Они, должно быть, думают, что мне нравится общаться с янки и работать, как рабыне. Мне и так тяжело, а они делают для меня жизнь еще тяжелее. Но мне плевать на то, что они думают. Я не позволю себе обращать на это внимание. Я просто не могу сейчас обращать на это внимание. Но наступит день, наступит день…»
Да, такой день наступит! И тогда ее мир перестанет быть зыбким, тогда она сядет, сложит ручки на коленях и будет вести себя как настоящая леди, какой была Эллин. Она снова станет беспомощной и нуждающейся в защите, как и положено быть леди, и тогда все будут ее одобрять. Ах, какою леди до кончиков ногтей она станет, когда у нее опять появятся деньги! Тогда она сможет быть доброй и мягкой, какой была Эллин, и будет печься о других и думать о соблюдении приличий. И страх не будет преследовать ее день и ночь, и жизнь потечет мирно, неспешно. И у нее будет время играть с детьми и проверять, как они отвечают уроки. Будут долгие теплые вечера, когда к ней будут приезжать другие дамы, и под шуршание нижних юбок из тафты и ритмичное потрескивание вееров из пальмовых листьев им будут подавать чай, и вкусные сандвичи, и пироги, и они часами будут неторопливо вести беседу. И она будет доброй ко всем несчастным, будет носить корзинки с едой беднякам, суп и желе — больным и «прогуливать» обделенных судьбой в своей красивой коляске. Она станет леди по всем законам Юга — такой, какой была ее мать. И тогда все будут любить ее, как любили Эллин, и будут говорить, какая она самоотверженная, и будут называть ее «Благодетельница»!
Она находила удовольствие в этих мыслях о будущем, — удовольствие, не омраченное сознанием того, что у нее нет ни малейшего желания быть самоотверженной, или щедрой, или доброй. Она хотела лишь слыть таковой. Однако ее мозг был слишком примитивен, слишком невосприимчив, и она не улавливала разницы между «быть» и «слыть». Ей достаточно было верить, что настанет такой день, когда у нее появятся деньги и все будут одобрять ее.
Да, настанет такой день! Но пока он еще не настал. Не настало еще время, чтобы о ней перестали судачить. Она еще не может вести себя, как настоящая леди.
А Питер сдержал слово. Тетя Питти действительно пришла в невероятное волнение, у Питера же за ночь разыгрались такие боли в спине, что он больше не садился на козлы. С тех пор Скарлетт стала ездить одна, и мозоли, которые исчезли было с ее рук, появились снова.
Так прошли весенние месяцы, и холодные апрельские дожди сменились теплом и душистой майской зеленью. Неделя бежала за неделей в трудах и заботах, осложненных недомоганием, вызванным беременностью; с течением времени старые друзья становились холоднее, а родные — добрее и внимательнее, выводя Скарлетт из себя своей опекой и полным непониманием того, что ею движет. В эти дни тревоги и борьбы среди всех, окружавших Скарлетт, лишь один человек понимал ее, только на него она могла положиться; этим человеком был Ретт Батлер. Странно, что именно он предстал перед ней в таком свете, — непостоянный, как ртуть, и порочный, как дьявол из преисподней. Но он сочувствовал ей, а как раз этого ей и недоставало, хотя меньше всего она рассчитывала встретить сочувствие у него.
Он часто уезжал из города по каким-то таинственным делам в Новый Орлеан — он никогда не говорил, зачем туда едет, но эти поездки вызывали у нее что-то близкое к ревности: она была уверена, что они связаны с женщиной или — с женщинами. Но с тех пор как дядюшка Питер отказался возить ее, Ретт все больше и больше времени проводил в Атланте.
Находясь в городе, он обычно играл в карты в комнатах над салуном «Наша славная девчонка» или в баре Красотки Уотлинг, где вместе с самыми богатыми янки и «саквояжниками» измышлял разные способы обогащения, за что горожане презирали его не меньше, чем его собутыльников. В доме у Скарлетт он больше не появлялся — по всей вероятности, щадя чувства Фрэнка и Питти, которые оскорбились бы, если бы Скарлетт вздумала принимать визитера, находясь в столь деликатном положении. Но так или иначе, она сталкивалась с ним почти каждый день. Он нередко подъезжал к ней, когда она катила в своей двуколке по пустынной Персиковой или Декейтерской дороге, где находились ее лесопилки. Завидев ее, Ретт неизменно придерживал лошадь, и они подолгу болтали, а иногда он привязывал лошадь к задку двуколки, садился рядом со Скарлетт и вез ее, куда ей требовалось. Она в эти дни быстро уставала, хоть и не любила в этом признаваться, и всегда была рада передать ему вожжи. Он всякий раз расставался с ней до того, как они возвращались в город, но вся Атланта знала об их встречах, и у сплетников появилась возможность кое-что добавить к длинному перечню проступков, совершенных Скарлетт в нарушение приличий.
Ей случалось задуматься над тем, так ли уж неожиданны были эти встречи. Они становились все более частыми по мере того, как шли недели и обстановка в городе из-за стычек с неграми накалялась. Но почему Ретт ищет встреч с нею именно сейчас, когда она так плохо выглядит? Никаких видов на нее у него теперь, конечно, нет, если они вообще когда-то были, в чем она начала сомневаться. Он давно перестал подтрунивать над ней, вспоминать ту ужасную сцену в тюрьме янки. Он перестал даже упоминать об Эшли или ее любви к нему, ни разу — с присущими ему грубостью и невоспитанностью — не говорил, что «вожделеет ее». Скарлетт сочла за лучшее не трогать лиха, пока спит тихо, и не спрашивать Ретта, почему он стал так часто встречаться с ней. А потом она решила: все его занятия в общем-то сводятся к игре в карты и у него так мало в Атланте добрых друзей, вот он и ищет ее общества исключительно развлечения ради.
Но чем бы ни объяснялось его поведение, она находила его общество приятным. Он выслушивал ее сетования по поводу упущенных покупателей и неплатящих должников, по поводу мошенника мистера Джонсона и этой бестолочи Хью. Он аплодировал ее победам, в то время как Фрэнк лишь снисходительно улыбался, а Питти в изумлении изрекала: «Батюшки!» Скарлетт была уверена, что Ретт частенько подбрасывал ей заказчиков, так как был знаком со всеми богатыми янки и «саквояжниками», но когда она спрашивала его об этом, он неизменно все отрицал. Она прекрасно знала цену Ретту и не доверяла ему, но настроение у нее неизменно поднималось, когда он показывался из-за поворота тенистой дороги на своем большом вороном коне. А когда он перелезал в двуколку и отбирал у нее вожжи с какой-нибудь задиристой шуточкой, она словно расцветала и снова становилась юной хохотушкой, несмотря на все свои заботы и расплывавшуюся фигуру. Она могла болтать с ним о чем угодно, не скрывая причин, побудивших ее поступить так или иначе, или своего подлинного мнения по поводу тех или иных вещей, — болтать без умолку, не то что с Фрэнком или даже с Эшли, если уж быть до конца откровенной с самой собой. Правда, когда она разговаривала с Эшли, возникало много такого, чего соображения чести не позволяли ей говорить, и эти невысказанные слова и мысли, естественно, влияли на ход беседы. Словом, приятно было иметь такого друга, как Ретт, раз уж он по каким-то непонятным причинам решил вести себя с ней по-доброму. Даже очень приятно — ведь у нее в ту пору было так мало друзей.
— Ретт, — с негодованием воскликнула она вскоре после ультиматума, который предъявил ей дядюшка Питер, — почему в этом городе люди так подло относятся ко мне и так плохо обо мне говорят? Трудно даже сказать, о ком они говорят хуже — обо мне или о «саквояжниках»! Я никогда ни во что не вмешиваюсь и не делаю ничего плохого и…
— Если вы ничего плохого не делаете, то лишь потому, что вам не представилось возможности, и, вероятно, люди смутно это понимают.
— Да будьте же, наконец, серьезны! Они меня доводят до исступления. А ведь я всего-навсего хочу немного подзаработать и…
— Вы всего-навсего стараетесь быть непохожей на других женщин и весьма преуспели в этом. А я уже говорил вам, что это грех, который не прощает ни одно общество. Посмей быть непохожим на других — и тебя предадут анафеме! Да уже одно то, что вы с таким успехом извлекаете прибыль из своей лесопилки, Скарлетт, является оскорблением для всех мужчин, не сумевших преуспеть. Запомните: место благовоспитанной женщины — в доме, и она ничего не должна знать о грубом мире дельцов.
— Но если бы я сидела дома, у меня уже давно не осталось бы крыши над головой.
— Зато вы голодали бы гордо, как положено благородной даме.
— Чепуха! Посмотрите на миссис Мерриуэзер. Она торгует пирогами, кормит ими янки, что много хуже, чем иметь лесопилку, а миссис Элсинг шьет и держит постояльцев, а Фэнни расписывает фарфор, делает уродливейшие вещи, которые никому не нужны, но все их покупают, чтобы поддержать ее, а…
— Но вы упускаете из виду главное, моя кошечка. Эти дамы ведь не преуспели, а потому это не задевает легкоранимую гордость южных джентльменов, их родственников. Про них мужчины всегда могут сказать: «Бедные милые дурочки, как они стараются! Ну ладно, сделаем вид, что они нам очень помогают». А кроме того, вышеупомянутые дамы не получают никакого удовольствия от своей работы. Они всем и каждому дают понять, что только и ждут, когда какой-нибудь мужчина избавит их от этого неженского бремени. Поэтому их все жалеют. А вы явно любите свою работу и явно не позволите никакому мужчине занять ваше место, вот почему никто не жалеет вас. И Атланта никогда вам этого не простит. Ведь так приятно жалеть людей.
— О господи, хоть бы вы иногда бывали серьезны.
— А вы когда-нибудь слышали восточную поговорку: «Собаки лают, а караван идет»? Так вот, пусть лают, Скарлетт. Боюсь, ничто не остановит ваш караван.
— Но почему они против того, чтобы я делала деньги?
— Нельзя иметь все, Скарлетт. Вы либо будете делать деньги неподобающим для дамы способом и всюду встречать холодный прием, либо будете бедны и благородны, зато приобретете кучу друзей. Вы свой выбор сделали.