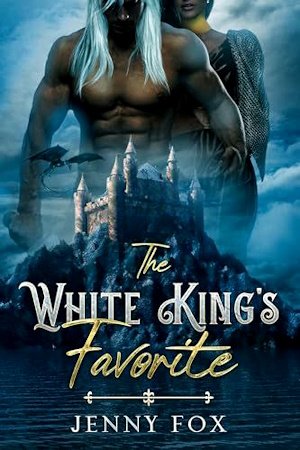— Да.
— Можешь проветрить духовку для меня?
Я подхожу к духовке — которая больше похожа на металлический шкаф со стеклом в дверце — и нажимаю на кнопку, которая выпускает пар, чтобы буханки начали подсыхать в последние несколько минут выпечки.
— Спасибо.
Я запрыгиваю на стойку и изучаю комнату. С октября она стала для меня почти такой же привычной, как моя комната в общежитии, и я перестала замечать, как здесь тесно. Как выходящий пар пахнет влажным, сырым и мокрым тестом. Руки Уэста всегда заняты, пол всегда грязный, а я всегда в безопасности, даже если мне не всегда комфортно.
Теперь у нас официально перерыв, и я должна быть дома.
Дом становится все более сложным понятием. Я по-прежнему разговариваю с отцом раз в неделю, но стала бояться наших разговоров. Я всю жизнь была папиной дочкой, а теперь не знаю, что ему сказать. Он спрашивает меня, как идет изучение Права, такой ли сложный класс, как я боялась. Он напоминает мне, что я должна искать летние стажировки, потому что мне нужно иметь некоторый опыт, прежде чем я начну подавать документы в юридические школы через несколько лет.
Он говорит мне, что любит меня и напоминает, чтобы я была в безопасности.
Я кладу трубку с пронзительной болью в животе. Я чувствую себя лгуньей, но не могу сказать ему правду.
Впервые с тех пор, как приехала в Патнем, я не хочу ехать домой на каникулы. Папа затевает всю эту историю с индейкой, а я отвечаю за начинку. Моя сестра Жанель и ее жених делают клюквенный соус и рулеты. Элисон, моя вторая сестра, сейчас в Лесото в Корпусе мира, но если бы она была дома, то сделала бы тыквенный пирог.
Думаю, я должна взять на себя обязанности по приготовлению пирога.
Я должна примерить платье подружки невесты для свадьбы Жанель, которая состоится летом. Она посылает мне по электронной почте подробности о местах, которые они рассматривают, о цветах, которые ей нравятся, об открытках с датой, которые они делают на Этси. Я знаю, что должна быть взволнована, поэтому я так себя и веду, но я не могу вызвать никакого энтузиазма.
— Ты звонила тому парню? — спрашивает Уэст.
Прошло два дня с тех пор, как он закрылся в своей комнате. Это первый раз, когда кто-то из нас упоминает о том разговоре.
— Скотту, — говорю я.
— Я помню.
— Нет. Я ему еще не звонила.
Его телефон жужжит. Уэст проверяет его и набирает кому-то сообщение. Он был приклеен к нему всю ночь, отвлекаясь. Он не сказал мне, с кем он переписывается. Это может быть его сестра, его мать или какая-то подружка дома, о которой он никогда не упоминал.
Он ничего мне не говорит.
Сегодня ему нечему меня учить. За все эти недели глазирования и проб я чувствую, что мы никогда не говорили о том, чему именно я должна была научиться.
Я никогда не просила его быть моим учителем. Это не то, чего я от него хочу.
Но с другой стороны, я нашла подтверждение урокам Уэста, разбросанным по всей моей жизни. Доказательство того, что то, что Нейт сделал со мной, не единственное, о чем стоит говорить. Доказательство того, что так же, как я могла зайти в пекарню в любой вечер, я могу зайти на вечеринку или выйти на поле для регби.
Я все еще здесь. Со мной все в порядке. Мне не нужна опека, и я не собираюсь больше покупаться на всякую ерунду.
Меня переклинило, я совершенно устала от притворства. Потому что с октября я поняла еще одну вещь: Уэст ничего мне не говорит и, если я ничему не могу его научить, мы никогда не станем чем-то большим, чем мы есть в этой комнате.
Он остается здесь на каникулы. Слишком дорого и долго лететь в Орегон на те жалкие несколько выходных, которые мы получаем и, в любом случае, Бобу нужна его помощь.
Это то, что сказал мне Уэст.
Он не сказал мне, что хочет вернуться домой, но я знаю, что он хочет, хотя я не знаю, где находится дом, из какого он города, что его там ждет. Я не знаю, потому что он не говорит. Он не говорит мне, почему его внимание так приковано к телефону, почему он все время отвлекается в последнее время, о чем он беспокоится.
Я знаю, что он беспокоится. Знаю, что что-то с ним не так. Но я также знаю, что он никогда не поднимет глаза от хлеба и не скажет мне:
— Кэр, могу я тебе кое-что сказать?
Сегодня между нами установилась какая-то неловкая окончательность, и я думаю, что это из-за того разговора в квартире.
Может быть, я ошибаюсь. Может быть, это произошло, когда он передал мне конверт с деньгами. Возможно, деньги что-то изменили.
Если бы Уэст делился своей травой с друзьями, он был бы парнем, с которым весело проводить время. Поскольку он продает ее им, он преступник. Это из-за денег.
Я должна быть богатой. Он должен быть бедным. Он дал мне пятнадцать тысяч долларов и теперь между нами что-то изменилось, но он не говорит мне что, а я не спрашиваю.
Я не настолько храбрая, чтобы давить на него, но я хотела бы, чтобы он сказал мне. Я бы хотела, чтобы я была ему нужна. Потому что я не уверена, как долго еще выдержу быть единственной на этой кухне, кто признается в своей уязвимости. И я также не уверена, как долго еще мне это будет нужно — эти поздние ночные поездки в пекарню, эти часы с работающим Уэстом и миксерами.
Мы могли бы сказать друг другу еще столько всего, но не говорим.
Сегодня ночью дребезжащая песня миксера звучит как заупокойная молитва, и я не чувствую ничего, кроме печали. Я проснулась от кошмара, чтобы прийти сюда — от сна, в котором я была на поле для регби в ночной рубашке, пробираясь сквозь густой туман и не могла найти что-то нужное, не слышала, чтобы кто-то звал меня. Я чувствовала себя безвозвратно потерянной.
Эта ночь, этот момент — это конец чего-то.
— Я буду скучать по тебе, — говорю я ему.
Он стоит спиной ко мне. Не отвечая или даже не признавая, что я говорю, он включает миксер на высокую мощность. Он стучит так громко, что я не слышу музыки. Я закрываю уши и слушаю стук своего сердца с закрытыми глазами. Когда я открываю их, его рука лежит на моем бедре, и он стоит прямо передо мной, заполняя все мое поле зрения.
Его серебристо-голубые глаза напряжены и в тени из-за насупленных бровей.