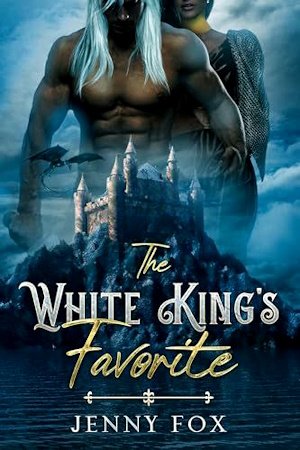Но куда?
В темноте в этом нет смысла».
Она бросается наверх. Ступеньки неровные, изношенные и скользкие, но она все равно бежит.
Три этажа. Сорок ступенек.
Только бы дверь была открыта. Только бы открыта.
Шорох сандалий по древнему камню и гул крови в ушах. Она не слышит, что у нее за спиной.
«Оно крадется. Оно знает, что я в ловушке и не...» * * *
Темнота сереет. Она различает свою руку, когда тянется к веревке. Затем ладонь, пальцы, очертания центральной колонны, вокруг которой вьется лестница. Над головой раздаются шаги.
Дверь. Она видит дверь. Тяжело дышит от бега по ступенькам. В щели между старыми досками наверху пробивается свет.
Откройся. Откройся. Только откройся.
Все еще темно. Но она различает очертания двери. Рука тянется к задвижке задолго до того, как та оказывается в пределах досягаемости.
Коснулась. Нащупала. Схватила. Подняла. Створка под ее напором поддается, и она вываливается на крышу, залитую ярким солнечным светом.
Золотые бастионы, зубчатые верхушки стен. Полосатые зонты; шезлонги; голубая, как сапфир, водная гладь и огромная спутниковая тарелка, устремленная в небо.
Опустив глаза, Мерседес видит, что ее руки окутаны серой полупрозрачной паутиной. Ахнув от ужаса, начинает неистово себя отряхивать, отскакивает от стены и чуть не возвращается обратно в свою темницу. За ее спиной зияет дверной проем. Она подбегает и захлопывает его. Если… Просто. На всякий случай.
«Нет, я не собираюсь здесь оставаться. Ни за что на свете. Если она так поступила, то от нее можно ждать чего угодно».
Чем медленнее в ее груди бьется сердце, тем больше страх уступает место ярости. Мерседес скрипит зубами и сжимает в кулаки руки. Мысленно произносит все то, что ей не терпится сказать. «Да пошла ты, Татьяна Мид. Пошла ты. Я ни на минуту не останусь здесь, чтобы быть... твоей игрушкой».
Она подходит к зубцам стен и смотрит вниз. Под ней в лучах солнца простирается пропеченная до золотистой корочки центральная равнина, на скале щербатыми зубами высится храм, а за ним тянется море. Вокруг ни звука, если не считать песни цикад. На шезлонге лежат вещи Татьяны: платье, книжка с золотистыми буквами на корешке, плюс портативный плеер с наушниками и куча кассет — наверняка с самыми распоследними и крутыми, вышедшими буквально вчера записями...
«Да пошла ты».
Она сваливает все на полосатое полотенце, стягивает его в узел и швыряет в бассейн. Потом с мрачным удовлетворением смотрит, как оно разворачивается и все его содержимое опускается на дно. «Вот так! — думает она. — Как тебе такое». Затем замечает тяжеловесную дверь на парадную лестницу и начинает долгий спуск домой.
30
Даже Донателла предполагает, что во всем виновата Мерседес.
— Так что ты наделала? — спрашивает она, подходя к кровати.
От нее пахнет работой и маслом. Она стаскивает с себя черное платьице из тех, в которые Серджио в качестве униформы обрядил весь персонал ресторана после того, как увидел слуг на яхтах.
— Что? — гневно вскидывается Мерседес.
Донателла бросает платье в корзину для белья.
— Ты наверняка что-то натворила. Они даже не отправили тебя на машине.
«Я слишком устала», — думает Мерседес.
Прошагав два часа, она вернулась домой, терзаемая жаждой и вся в пыли. Идиотские туфли натерли мозоли, которые полопались и теперь сочились влагой. Все были слишком заняты, чтобы обратить на нее внимание, поэтому она просидела одна в их с Донателлой спальне в ожидании сестры, уверенная, что та будет на ее стороне.
— Значит, ты считаешь, будто это я что-то натворила? — спрашивает она и, не успев договорить, заливается слезами.
Ларисса приносит ей тарелку с сосисками и чечевицей, ее любимое с детства блюдо, и обнимает.
— Мне так жаль, — говорит она, — я боялась, что случится что-то подобное.
«Да? Почему же тогда не остановила?» — думает Мерседес.
Она плачет и ест. Еще плачет и снова ест. Зверский голод она почувствовала только в тот момент, когда поставила на колени тарелку.
— Я больше туда не вернусь, — говорит она.
— Ни за что, — отвечает Ларисса и гладит ее пыльные волосы. — Jala, Мерседес, тебе нужно в душ.
— Это было... ужасно, — говорит она и не может сдержать новый приступ рыданий.
У Лариссы мрачнеет взгляд.
— Ах, ты моя девочка, — говорит она, — бедный мой ребенок.
Серджио, увидев ее в дверном проеме, вообще никак не отреагировал на происходящее. С тем же успехом она могла быть невидимой. Когда она встает на следующее утро, надевает передник, с июля висевший без дела на внутренней стороне двери, и отправляется работать в ресторан, он не обращает на нее внимания. Лишь бросает долгий злобный взгляд издалека и уходит внутрь.
— Не переживай насчет него, — говорит Донателла, — он просто беспокоится насчет денег.