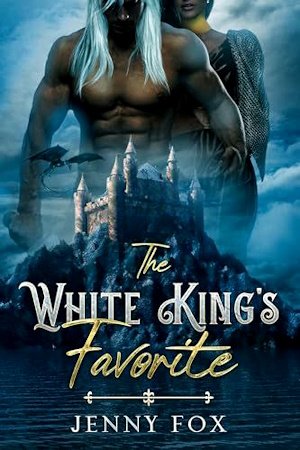— Что случилось? Больна?
— Ничего не знаем, Анфиса Ниловна… Кучер с вокзала письмо завез. Меня и послали. На богомолье, знать, уехала сама… с Лизаветой Филипповной…
Старушка всплеснула руками.
— Сказывал Ермолай, молодая-то барыня вроде как бы порченая… Белая-белая… Все вскрикивает да плачет. Очень глядеть жалость! Не поймем, что случилось. С мужем рассорились али что? — толковал бойкий мальчик. Он, как и все приказчики и прислуга, искренно любил Лизу за её щедрость.
Старушка пронзительно поглядела на запечатанный конверт. ещё не было девяти, но она не утерпела. Посадив «мальца» за кофе с булками, она пошла будить «Андрюшу». Тот не скоро понял, в чем дело. Но когда няня сообщила ему полушепотом все, что слышала от мальчика, Тобольцев взялся за голову. «Всё знает… Ужас!.. Несчастие…» — была его первая мысль. А вторая: «Ух! Гора с плеч свалилась… Спасибо маменьке!..» Третья: «Коли плачет да молится, значит, рук на себя не наложит…»
— Накось письмо-то!.. Прочти, — сурово молвила нянюшка.
Хмурясь, Тобольцев разорвал конверт. Он предчувствовал упреки. Он не любил их. Дрожавшей рукою, карандашом и безграмотно Анна Порфирьевна писала:
«Лиза знает. Едем на богомолье. Вернемся через неделю, а коли раньше, ты все-таки не заглядывай. Пусть обойдётся!..»
— Милая! — крикнул Тобольцев и прижал письмо к губам. Он не понял, несмотря на всю тонкость своей души, что не для него старалась в данном случае мать. Он не понял, что теперь Лиза ей ближе. И что она оберегает её покой, а не его интересы. Нянюшка, давно жалевшая «цыганку», тоже в эту минуту почувствовала невольную симпатию к униженной женщине.
— Там Егорка ждет. Он письмо принес.
— Дайте ему рубль, нянюшка… У вас есть деньги?
Она молча вышла. На кухне она дала Егорке двугривенный.
Наступила масленица, и Тобольцев «закрутил», по выражению Фимочки. Он был на блинах и у невесты. Пекла блины Соня, угощала Катерина Федоровна. И Тобольцев говорил, что у него не только блины во рту, но и сердце в груди тает. Потом он катал невесту и Соню на тройке за город.
Анна Порфирьевна и Лиза вернулись домой, когда кончилась угарная масленица. Это было вечером, в «прощеное воскресенье». На звонок выбежала и отперла Федосеюшка.
— Ну как у вас? Все здоровы? — спросила хозяйка.
— Все, Анна Порфирьевна, все, — с низким поклоном пропела Федосеюшка. — У нас Анфиса Ниловна в гостях сидят, — добавила она и ловко сняла с обеих женщин ротонды из черно-бурой лисицы. Из-под смиренно опущенных ресниц она кинула воровской взгляд на зацепеневшее лицо Лизы, и беглая усмешка зазмеилась у тонких губ горничной. Но только на одно мгновение… В следующее — все её смуглое лицо выражало только преданность и смирение.
Нянюшка почтительно поцеловала в плечо хозяйку Лизу она видела только мельком. «Каменная стала, словно статуй», — очень тонко определила старушка.
Анна Порфирьевна послала с нею записку сыну. «Заезжай на неделе. Теперь с нею говорить можно».
И вот, в среду вечером, Тобольцев с расстроенными нервами, пресыщенный, мрачный и подавленный, ехал в Таганку, как на казнь.
Все пили чай в столовой, когда он вошел. Не было только хозяйки, которой нездоровилось.
Каково же было его изумление, когда Лиза встретила его с каким-то новым и чужим ему лицом! Ни жгучих взглядов укоризны, ни нервных вибраций голоса… Более того: она казалась рассеянной и далекой. В глаза Тобольцеву не смотрела. Всё как будто через его голову куда-то… Но и не избегала его, когда глаза их встречались. Два раза она даже бегло улыбнулась ему. И опять как будто позабыла о нем… Тобольцев был слишком тонким человеком, чтобы не понять, что для таких метаморфоз мало одной религии и хотя бы той силы внушения, какую, он знал, выказала в данном случае Анна Порфирьевна. «Что же случилось?»
А случилось вот что…
Вернувшись с вокзала, измученная невыносимой дорогой и нервным напряжением всех этих дней, Анна Порфирьевна напилась чаю и тотчас ушла на покой. А через какой-нибудь час у подъезда позвонил гость. Огромный, плотный, с белокурой бородкой, в темных очках, в полушубке и высокой смушковой шапке, какую носят малороссы, он как бы наполнил переднюю своей громадной фигурой. Федосеюшка не признала его только на одно мгновение и больше из-за бороды. Но при первых звуках его бархатного баса она как-то внутренне дрогнула вся.
— Милости просим, гость дорогой, — певуче протянула она, низко в пояс кланяясь Потапову. — Пожалуйте наверх, доложу… Анна Порфирьевна ещё не засыпали…
«Припомнила-таки… шельма!..» — удивился наивный Потапов.
— А дома-то есть ещё кто-нибудь?
— Никого, окромя Лизаветы Филипповны.
Потапов задумчиво улыбнулся.
— Лизавета Филипповна, вас «сама» наверх просит, — доложила Федосеюшка, внезапно появляясь на пороге.
Лиза вздрогнула. Она лежала на кушетке и как будто дремала. По по скорбному излому бровей можно было догадаться, как она страдает.
— Сейчас приду, — прошептала она, оправляя волосы.
В спальне Анны Порфирьевны, озаренной неугасимой лампадой у старого ценного образа, она сама лежала в постели, за ширмами. А у окна, в её любимом кресле, сидел таинственный гость… Лиза остановилась в изумлении на пороге. Опять-таки вход в спальню «самой», когда она легла, был доступен только Федосеюшке и Тобольцеву. И снова это доказательство исключительного почета поразило воображение Лизы.
— Лизанька, — слабо позвала её свекровь, — вот познакомься: сибиряк и родственник мой, Николай Федорович Степанов…
Огромная фигура поднялась с кресла навстречу Лизе, и её рука утонула в пожатии этой большой руки, с рыжими волосами на суставах пальцев и на кисти. Горячие синие глаза прямо и доверчиво глянули в зрачки Лизы.
Что прочла она в этих глазах? Трудно сказать… Но у неё как будто камень упал с сердца от светлой улыбки Потапова. В первый раз за две недели она вздохнула полной грудью. И тотчас же — не жгучие слезы обиды и ревности, — а сладкие, легкие слезы зажглись в её глазах. Он их видел наверно… И эти слезы ее, и эта жалость его, как буря, вторгшаяся в его сердце, навсегда решили их отношения.
Она быстро вырвала свою руку, отвернулась и рада была, что ей не надо говорить… А слезы, светлые и легкие, быстро-быстро бежали из её глаз и капали на её серенький пуховый платок…
«Друга сразу почувствовала в нем, — впоследствии рассказывала она Тобольцеву. — Как только взял он мою руку в свою и так крепко пожал ее… И рука у него сильная такая и теплая! Чувствую, что на него, как на гору каменную, я положиться могу. Чувствую, что я не одна на свете теперь и что он меня всем сердцем жалеет и горе мое чувствует… И поди ж ты!
В первый раз человека увидала, а ни стыда перед ним за слезы мои, ни страха к нему… Точно я его с детства знала!»
— Лизанька, милая, — говорила ей свекровь тем новым, любовно-бережным тоном, каким она теперь всегда говорила с нею, — пригласи Николая Федоровича к себе, напои его чаем, ужином покорми… И постелить прикажи ему здесь, наверху. Федосеюшка знает… А я сосну… Голова у меня что-то тяжела…
Это было в воскресенье, перед начинавшимся долгим постом. Внезапное объявление войны с японцами[136] не повлияло на обычный разгул купечества. «Рукавицами всех прихлопнем! — говорил Николай. — Обезьяны желтые!» А патриот Капитон презрительно усмехался. Фимочка с мужем и Николай с своей компанией с четырех часов «закатились» за город…