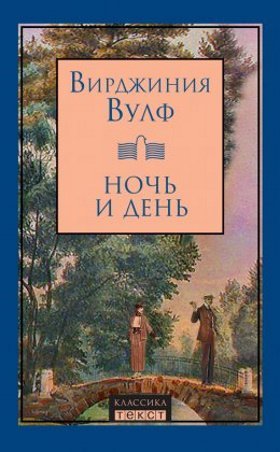После чего она представила, как ее кузен, человек умный и чуткий, вопросительно поднимет брови и уточнит:
«Ну хорошо, и чем же ты думаешь заняться?»
В ходе этого чисто умозрительного диалога Кэтрин потребуется немалое мужество, чтобы поделиться своей заветной мечтой даже с чисто умозрительным собеседником.
«Я бы хотела… – скажет она, умолкнет и лишь после долгой паузы продолжит чуть дрогнувшим голосом: – Заниматься математикой и изучать звезды».
Генри будет потрясен, но по доброте душевной не станет высказывать вслух свои опасения, он лишь заметит, что математика – наука трудная, и добавит, что мало знает о звездах.
И тогда Кэтрин перейдет собственно к сути дела:
«Мне не важно, много ли узнаю в результате, просто я хочу иметь дело с цифрами – то есть мне нужно какое-то занятие, не связанное с людьми. Особенно с людьми. Знаешь, Генри, в некотором смысле я обманщица, то есть я не та, за кого меня все принимают. Я не домоседка, не практичная, не чуткая. И если я смогу что-нибудь подсчитывать, пользоваться телескопом, иметь дело с цифрами и точно знать, где я неправа, тогда я буду совершенно счастлива и, надеюсь, смогу дать Уильяму все, чего он от меня ждет».
И в этом месте интуиция подсказала ей, что она переступила черту, за которой совет Генри мог бы пригодиться, так что, закончив на этом воображаемый разговор, она опустилась на каменную скамью, невольно подняла взгляд к небу и задумалась о более серьезных вопросах, которые, как она понимала, ей нужно решить для себя самой. Действительно ли она может дать Уильяму то, чего он от нее ждет? Чтобы разобраться в этом, она бегло перебрала в уме весь небольшой перечень пожеланий, взглядов, комплиментов, жестов, которые были во время их общения за последний день или два. Родни очень расстраивался, что багаж с ее одеждой, которую он сам для нее выбирал, отправили не на ту станцию, поскольку она не удосужилась толком надписать ярлыки. Багаж конечно же вскоре доставили, и, когда Кэтрин в тот вечер спустилась в гостиную, он сказал, что сегодня она особенно красива. И будто бы она затмила своей красотой всех кузин, и что все ее жесты и движения изящны, и еще сказал, что форма ее головы позволяет ей, в отличие от многих женщин, низко закалывать волосы. Он дважды упрекнул ее за то, что она молчит во время ужина, и однажды – за то, что не слушает его. Он подивился безупречности ее французского, но счел с ее стороны эгоистичным не отправиться с матерью с визитом к Миддлтонам, ведь они их старые знакомые и вообще очень милые люди. В целом баланс соблюдался, и, мысленно подведя итог, по крайней мере, на текущий момент, она вздохнула, подняла глаза к небу – и не видела уже ничего, кроме звезд.
В ту ночь они светили особенно ярко, от их мерцания у нее рябило в глазах, и она подумала: какие звезды счастливые! И хотя по сравнению со многими своими сверстницами Кэтрин довольно мало разбиралась в религии и даже не интересовалась ею, сейчас, когда она смотрела на рождественский небосвод, ей показалось, что небо склоняется над землей с глубокой нежностью и словно хочет сказать этим бессмертным сиянием: я тоже радуюсь вместе с тобой! Наверное, даже в этот момент небеса видят караван волхвов, движущихся по пыльной дороге в какой-то дальней стране… И, посидев так еще немного, она почувствовала то, что всегда чувствовала в присутствии звезд: как вся короткая история человечества рассыпается хладным пеплом и человеческое тело принимает облик обезьяноподобного косматого существа, притаившегося в диких и грязных каменных джунглях. Эту картину вскоре сменила другая, где в мире не было уже ничего, кроме звезд и звездного сияния; и, глядя в небеса сузившимися от звездного света зрачками, она чувствовала, что и сама превратилась в сияние и рассыпается мириадами серебряных брызг, все дальше и дальше по всей бесконечной Вселенной. И в то же время, как ни странно, она была всадницей, а рядом – благородный герой, и они мчались на резвых конях по берегу моря и под сводами леса, и так продолжалось бы вечно, если бы бренная плоть не напомнила о себе самым недвусмысленным образом: тело, привыкшее к нормальным жизненным условиям, воспротивилось попыткам разума эти условия изменить. Она замерзла. Поеживаясь от холода, она поднялась и пошла к дому.
Особняк Стогдон-Хаус в тусклом свете небес вставал перед ней бледной громадой, чуть не вдвое больше обычного, напоминая романтический замок. Построенный отставным адмиралом в самом начале девятнадцатого столетия, с округлыми эркерными окнами, горящими желтовато-красным огнем, в этот час он более всего напоминал величественный трехпалубный корабль, бороздящий моря с дельфинами и нарвалами, резвящимися тут и там, как их обычно изображали на старинных картах. Пологий ряд полукруглых ступеней вел к парадной двери, которую Кэтрин, выходя, забыла прикрыть за собой. Она помедлила, окинула взглядом фасад старого дома, отметив, что в маленьком окошке под крышей теплится огонек, и толкнула тяжелую дверь. С минуту постояла в квадратном холле, среди множества рогатых черепов, пожелтевших глобусов, старых картин в крокелюрах и совиных чучел, не решаясь открыть дверь справа, из-за которой доносились оживленные голоса. Прислушавшись, она уловила звук, окончательно убедивший ее, что входить не стоит: ее дядюшка, сэр Френсис, имевший обыкновение по вечерам играть в вист, уже приступил к любимому занятию и, судя по всему, пока был в проигрыше.
Она поднялась по витой лестнице, которая являла собой единственную претензию на помпезность в этом довольно обшарпанном особняке, затем прошла по узкому коридору, пока не оказалась перед той самой комнатой, горящее окошко которой заметила из сада. Постучалась и, дождавшись приглашения, вошла. Молодой человек – Генри Отуэй – читал, положив ноги на каминную решетку. У него была красивая голова, высокий, на елизаветинский манер, округлый лоб, но проницательные, ясные глаза смотрели не по-елизаветински сурово, а скорее насмешливо. Можно было подумать, он еще не нашел в мире ничего, что заслуживало бы серьезного отношения.
Генри отложил книгу и обернулся к ней. Он заметил ее побледневшее, в легкой испарине лицо – так бывает, когда человек с собой не в ладу. Сам он часто делился с ней своими сомнениями и теперь подумал, а даже отчасти надеялся, что, может быть, наконец-то и он сумеет ей чем-то помочь. С другой стороны, зная ее независимый характер, едва ли можно было ожидать от нее каких бы то ни было признаний.
– И ты тоже сбежала? – спросил он, поглядев на ее накидку. Кэтрин забыла снять это свидетельство своего звездочетства.
– Сбежала? – переспросила она. – От кого? Ах, с семейного сборища. Да, там стало чересчур душно, и я решила прогуляться.
– Очень замерзла? – поинтересовался Генри, подбросив в камин угольев, придвинув стул поближе к огню и забирая у нее накидку.
Из-за ее полного безразличия к таким мелочам Генри часто брал на себя роль, которая в подобных ситуациях обычно считается женской. И это их тоже по-своему сближало.
– Спасибо, Генри, – сказала она. – Я тебя ни от чего не отвлекаю?
– А меня здесь нет. Я в Банги, – ответил он. – Даю урок музыки Гарольду и Джулии. Потому я и вышел из-за стола вместе с дамами – сегодня переночую здесь и уеду, а потом вернусь только вечером в сочельник.
– Вот бы и мне… – начала было Кэтрин, но вдруг умолкла. – Мне кажется, эти семейные вечера – большая ошибка, – быстро добавила она и вздохнула.
– Да, ужасная! – согласился он, и снова повисла пауза.
Ее печальный вздох заставил его насторожиться. Может, прямо спросить ее, что случилось? Ведь едва ли правы те самонадеянные юноши, а их немало, кто считает Кэтрин скрытной во всем, что касается ее сердечных дел. Но с тех пор, как она обручилась с Родни, Генри испытывал к ней довольно смешанное чувство: при том что ему очень хотелось уязвить ее, он испытывал еще большую нежность к ней, и так странно и мучительно было сознавать, что она постепенно отдаляется от него, уплывает в далекое странствие по неведомым морям. Кэтрин же, стоило ей войти в эту комнату и стряхнуть с себя звездное оцепенение, уже понимала, что любое общение неполноценно: из всей массы чувств и эмоций только две возможно было представить на суд Генри – оттого она и вздохнула. Потом посмотрела на него, их взгляды встретились, и сразу стало ясно, что их объединяет нечто большее, чем можно было предположить: в конце концов, у них общий дед, и кроме того, принадлежность к одному семейству сближает, даже если у родственников нет особых поводов для взаимной симпатии, как у этих двоих.
– Когда свадьба? – сердито спросил Генри.
– Думаю, не раньше марта, – ответила она.
– А потом? – спросил он.
– Снимем домик, полагаю, где-нибудь в Челси.
– Очень интересно, – заметил он, искоса на нее поглядывая.
Кэтрин полулежала в кресле, задрав ноги и положив их почти на самый верх каминной решетки. Она развернула газету и, загородившись ею, как ширмой, время от времени зачитывала вслух то одну, то другую выхваченную наугад фразу.
Понаблюдав за ней некоторое время, Генри заметил:
– Может, замужество сделает тебя более человечной.
При этих словах она чуть опустила газету, но ничего не сказала.
Целую минуту длилось молчание.
– Если подумать о таких вещах, как звезды, сразу понимаешь, что наши отношения мало что значат, правда? – неожиданно произнесла она.
– А я не думаю о звездах, – ответил Генри. – И кроме того, это не объяснение, – добавил он, глядя на нее в упор.
– Может, и нет никакого объяснения, – поспешила ответить она, не совсем понимая, что он имеет в виду.
– Как? Вообще нет объяснения ничему? – с улыбкой поинтересовался он.
– Ну, всякое случается. Жизнь есть жизнь, – заключила она в своей обычной категоричной манере.
«Да, это уж точно объясняет некоторые твои действия», – подумал Генри.
– На самом деле я не вижу, чем одно лучше другого, да и наконец, нужно же что-то делать, – продолжил он с легкой издевкой, как бы продолжая ее мысль и даже копируя ее интонацию.
Наверное, она это почувствовала, потому что посмотрела на него внимательно и заметила с какой-то грустной иронией:
– Что ж, Генри, если ты думаешь, что твоя жизнь будет проще…