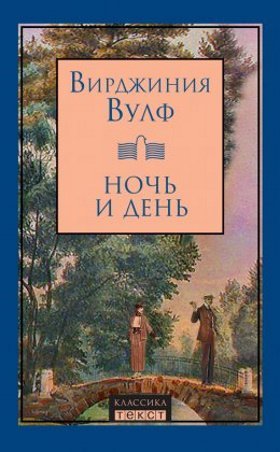Его это порадовало. Впервые он почувствовал себя на равных с женщиной, уважение которой пытался заслужить, хотя не мог бы объяснить, почему ее мнение о нем так много для него значит. Вероятно, он просто ждал от нее слова или жеста, о котором можно будет дома поразмышлять, вспоминая. Но он избрал неверную тактику.
– Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, – произнесла Кэтрин. Тут ей пришлось прерваться и ответить молодому человеку, который спросил, не желает ли она купить у них билет в оперу со скидкой.
И действительно, всеобщее оживление уже не позволяло продолжать доверительную беседу: гости вели себя шумно и непринужденно, и даже те, кто был едва знаком, теперь запросто обращались друг к другу на «ты». Обычно подобный дух товарищества в Англии возникает лишь после того, как люди посидят вместе три часа кряду, а то и больше, и первое же дуновение холодного ветра с улицы возвращает их в прежнее состояние оцепенения. На плечи уже накидывались плащи, на волосы поспешно прикалывались шляпки, и Денем весь похолодел, увидев, как нелепейший Родни помогает Кэтрин собраться. На таких сборищах не принято прощаться, достаточно кивнуть недавнему собеседнику перед уходом; и все же Денема огорчила поспешность, с которой Кэтрин рассталась с ним, – даже не докончив фразы. Она ушла вместе с Родни.
Глава V
Вообще-то Денем не собирался следовать за Кэтрин, но, увидев, что она уходит, он схватил шляпу и тоже кинулся на лестницу – вряд ли он так спешил бы, если б ее силуэт не маячил у него перед глазами. По пути он нагнал своего приятеля Гарри Сэндиса, им оказалось по пути, и они пошли вместе, чуть позади Кэтрин с Родни.
Ночь выдалась тихой и ясной – в такие ночи, когда уличное движение затихает, вдруг замечаешь луну, будто наверху раздвинулся занавес, и небо показывается во всей красе, чистое и широкое, как за городом. Ветерок обдавал приятной прохладой, и после долгого сидения в тесноте в четырех стенах, за бесконечными разговорами, было приятно прогуляться немного перед тем, как остановить омнибус или вновь окунуться в слепящий свет подземки. Сэндис, барристер [20] с философской жилкой, достал трубку, раскурил ее, пробормотал что-то вроде «хм» или «ха» и погрузился в молчание. Денем заметил, что двое впереди держатся несколько особняком и, судя по тому, как часто они оборачиваются друг к другу, о чем-то оживленно беседуют. Расступившись, чтобы пропустить встречного пешехода, они снова почти сразу же сблизились. У него и в мыслях не было следить за ними, и все же он старался не терять из виду желтый шарф, которым Кэтрин повязала голову, и стильное пальто, выделявшее Родни из толпы. У Стрэнда он подумал было, что они разойдутся в разные стороны, но вместо этого они перешли на другую сторону и углубились в один из узеньких переулков, ведущих мимо старых судебных зданий к реке. И если в толпе на оживленной улице Родни выступал всего лишь в роли провожатого, то теперь, когда прохожие стали редки и шаги этой пары четко отдавались в тишине, Денем невольно представлял себе уже другие разговоры. Резкие тени словно делали их выше, отчего эти две фигуры приобрели некую таинственность и значимость, и Денем уже не злился на Кэтрин, но воспринимал ее присутствие изумленно и покорно, словно из реальности она перенеслась в грезы. И он не возражал против грез – но Сэндис вдруг разговорился. Этот молодой человек вел замкнутый образ жизни, со своими друзьями познакомился в колледже и всегда обращался к ним так, будто они все еще студенты, спорящие до хрипоты в его тесной каморке, хотя иногда много месяцев и даже лет отделяли его нынешнюю реплику от предыдущей. Странный способ общения, но очень успокоительный для говорящего, поскольку позволяет полностью игнорировать реальный ход событий и между двумя сказанными вслух словами открываются вдруг глубочайшие бездны.
В данную конкретную минуту он произнес, после того как они остановились на краю Стрэнда:
– Я слышал, Беннет забросил свою теорию истины.
Денем ответил ему что-то подходящее случаю, и тот принялся объяснять, каким образом их общий знакомый пришел к такому решению и какие поправки это вносит в концепцию, которую оба они разделяли. Тем временем Кэтрин и Родни ушли далеко вперед, и Денем – сам того не сознавая – старался не упускать их из виду и при этом пытался вникнуть в то, о чем говорит Сэндис.
Беседуя таким образом, они прошли мимо судебных зданий, и тут Сэндис ткнул тросточкой в камень полуразрушенной арки и постучал по нему пару раз, иллюстрируя некую мутную мысль о сложной природе восприятия действительности.
Во время этой их вынужденной остановки Кэтрин с Родни свернули за угол и скрылись с глаз. Денем запнулся на полуслове, а когда продолжил фразу, у него возникло щемящее чувство, как будто у него вдруг отняли что-то.
Не подозревая, что за ними наблюдают, Кэтрин и Родни вышли на набережную [21] .
Перейдя улицу, Родни хлопнул ладонью по каменному парапету и воскликнул:
– Клянусь, больше ни слова об этом! Но прошу тебя, не спеши. Смотри, какая лунная дорожка на воде…
Кэтрин остановилась, глянула на реку, принюхалась.
– Кажется, пахнет морем, ветер с той стороны.
Какое-то время они стояли молча, под ними река лениво ворочалась в своем каменном ложе, а серебристые и красные огоньки на ее поверхности то разбегались, разведенные неумолимым течением, то вновь сходились. Где-то вдали жалобно загудел пароход, словно хотел сказать, как тоскливо ему держать свой одинокий путь в густом тумане.
– Ага! – воскликнул Родни, снова хлопнув по парапету. – Почему никто не скажет, как все это прекрасно?! Почему я навеки обречен чувствовать то, что не могу выразить словами? А если и попытаюсь, что толку… Поверь мне, Кэтрин, – зачастил он, – я никогда больше не заговорю об этом. Но в присутствии такой красоты – смотри, как сияет луна! – начинаешь понимать… начинаешь… Может, ты выйдешь за меня – я ведь наполовину поэт, ты же знаешь, и не умею притворяться, что не испытываю тех чувств, которые испытываю. Если бы я был настоящий писатель – о, тогда другое дело. Я бы не стал тогда беспокоить тебя своей просьбой – выйти за меня замуж. Всю эту довольно бессвязную речь он произносил, поглядывая то на луну, то снова на черную воду.
– Но если я правильно тебя поняла, мне ты советовал бы выйти замуж в любом случае? – спросила Кэтрин, пристально глядя на луну.
– Разумеется. Не только тебе, всем женщинам. Если подумать, без этого ты никто, ты живешь лишь наполовину, используешь лишь половину своих возможностей, надеюсь, ты и сама это чувствуешь. Именно поэтому…
Тут он умолк, и они медленно пошли вдоль набережной. Луна светила им в лицо.
– О, как печальна и бледна навстречу звездам шла она! [22] – продекламировал Родни.
– Я сегодня услышала о себе много неприятного, – сказала Кэтрин, не обращая внимания на его слова. – Кажется, мистер Денем решил, что вправе читать мне нотации, хотя я с ним почти не знакома. Кстати, Уильям, ты-то хорошо его знаешь, скажи, что он собой представляет?
Уильям делано вздохнул:
– Он доведет тебя до белого каления своими поучениями.
– Да, но что он за человек?
– А мы засыплем тебя сонетами, жестокосердная реалистка! – улыбнулся он. – Денем? Хороший парень, по-моему. Дельный. Но я бы не советовал тебе выходить за него. Он над тобой посмеется, ведь… а что он тебе сказал?
– С мистером Денемом дело обстоит так. Он приходит на чай. Я всеми силами стараюсь ему помочь, чтобы он не чувствовал себя неловко. А он сидит и насмехается. Тогда я показываю ему рукописи. И тут он вспыхивает и заявляет, что я не имею права говорить, что принадлежу к среднему сословию. На этой пафосной ноте мы расстаемся, а когда снова я его встречаю, нынче вечером, он подходит ко мне и говорит: «Пошли вы к черту!» Мою маму подобное поведение огорчает. Я хочу понять, к чему это все?
Она умолкла и, замедлив шаг, проводила взглядом освещенный изнутри поезд, проезжавший по Хангерфордскому мосту.
– Ну, наверное, что он считает тебя холодной и черствой.
Кэтрин рассмеялась, такой ответ ее позабавил.
– Мне пора, сяду в кеб и укроюсь в родных стенах! – воскликнула она.
– А твоя мама не будет беспокоиться, что нас видели вместе? Но ведь нас никто не узнал, правда? – спросил он с некоторой озабоченностью.
Кэтрин поглядела на него и, убедившись, что он вполне искренен, лишь усмехнулась.
– Смейся сколько угодно, но я скажу тебе: если кто-то из твоих знакомых увидит нас вдвоем в такой поздний час, пойдут разговоры, а мне бы этого не хотелось. Но почему ты смеешься?
– Не знаю. Наверное, потому, что ты такой чудной. Наполовину поэт, наполовину старая дева.
– Ну да, в твоих глазах я смешон. Но я все же воспитан на некоторых традициях и пытаюсь следовать им.
– Глупости это все, Уильям. Даже если ты принадлежишь к старейшей фамилии в Девоншире, это не повод отказываться от прогулки со мной по набережной.
– Я старше тебя на десять лет, Кэтрин, и знаю жизнь лучше, чем ты.
– Вот и отлично. Тогда оставь меня и ступай домой.
Родни оглянулся и заметил, что в некотором удалении от них едет таксомотор, очевидно поджидая пассажиров.