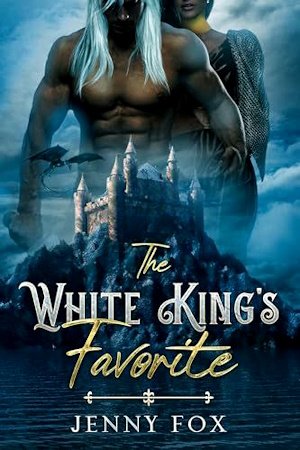Тобольцев задумчиво шагал по комнате. Он чувствовал, что тает лед между ними, и душа его расширялась от счастья.
— Скользкий путь, Стёпушка!.. — заговорил он мягко. — Путь компромиссов не может быть путем революции. Она головы не гнет… Важно воспитать в массах революционное настроение и удержать его на высоте, не мешая его на чечевичную похлебку сегодняшней мелкой, личной выгоды. Боюсь, что эту именно ошибку сделали вы… Вы заслоняете кругозор… Вы стремитесь к парламентскому большинству… Вы бросаетесь в политику, а спасение не в ней!
— А в чем же, по-вашему?
— В социальной революции.
— Гм!.. Тэк-с… Сейчас, чувствую, Бабёфа с Бланки[157] преподнесешь мне на подносе…
— Стёпушка, забудь на мгновение, что мы с тобой противники… Я напомню тебе слова Домелы Ньювенгауса[158]…
— А на какого дьявола мне его слова? Он — анархист.
— Он был социалистом, однако… И что он говорит?
«Долой компромиссы! Долой соглашения! Они начало гибели социализма…» Парламентская атмосфера, по его мнению, вся заражена. Очутившись в ней, нельзя остаться чистым… Никакой парламент не может разрешить социального вопроса… Это он же говорит…
— Ну и целуйся с ним!.. Мне-то что?.. Я свою программу действий знаю твердо… А чужой мне не надо… Отвяжись!..
— Вспомни, наконец, что говорит ваш же Энрико Ферри[159]: «В чем тайна успеха социализма? В чем обаяние его, как не в революционности его души?.. И берегитесь угасить дух!.. Тогда все погибнет…»
Они заспорили опять. Опять разгорячились. Вдруг Потапов с упрямым и злым выражением крикнул:
— Ну, брат!.. Тово… Не виляй!:. Нечего нам с тобой полемикой заниматься!.. Друг друга, видно, не убедим… А отвечай мне чистосердечно, как мне теперь к тебе отнестись?
— Что такое?
— Как мне тебя понимать? Друг ты мне или враг?
Вот что!
Тобольцев невольно отодвинулся.
— Опять фанатизм? Опять сектантство?.. Стёпушка! И ты серьезно можешь спрашивать? — горестно сорвалось у него. — Безнадежный доктринер, видящий в старом друге врага за то, что он пишет Иисус, а не Исус[160]. Ты даже не замечаешь, что дело революции мне так же дорого, как и тебе? Стёпушка!
Разве за все эти годы ты любил меня не за то, что я — л? — Он ударил себя в грудь. — А за то, что я сочувствовал твоей партии?
Потапов опять стал медленно багроветь.
— Ну, ты это тово… Чепуха!.. Словами меня не забивай!.. Я тебя не о том спрашиваю… Точно не понимаешь… Милый Стёпушка! Как ты не можешь понять? Ведь то, что привлекло меня к тебе и на чем зиждилась наша дружба, ведь это же гораздо выше политики… Глубже и шире этих партийных распрей и жалких ярлыков… И во имя этой неувядаемой красоты и ценности твоего я — запомни это, Стёпушка, — я для тебя останусь неизменным, что бы ни легло между нами!..
— Гм… Даже твоя жена? — То, что говорил Тобольцев, и то, как он это говорил, заставило сердце Потапова дрогнуть. Но выдать свое волнение он стыдился.
— О да!.. При чем тут жена? (Он вспомнил Лизу) Или какая бы то ни была женщина?.. Боюсь, Стёпушка, что моя любовь к тебе сильнее всех привязанностей в мире!
— Ой ли? — с блеском в глазах крикнул Потапов.
— Да, да!.. И это даже теперь, в период моей влюбленности. За свидание с тобой, Степан, я пожертвовал бы обладанием самой прекрасной женщиной!.. И почему ты думаешь, что я по-старому не восторгаюсь этой вашей неравной и дерзновенной борьбой?
Когда все элементы трагизма и красоты здесь налицо?
— Эстетик несчастный! — буркнул Потапов, меж тем как его губы невольно раздвигались в счастливую улыбку.
А Тобольцев говорил, шагая по комнате:
— Помни, пока ты и твои являются угнетенными, гонимыми и павшими, пока вы высоко несете знамя протеста, — я весь с вами! И все, чем я могу быть полезным, в твоем распоряжении по-старому!.. Но только до того момента, когда вы захватите власть ваши руки. Тогда мы будем врагами по принципу. — Потапов весело и задорно расхохотался. — И ещё вот что запомни, Стёпушка: когда другие революционные партии обратятся ко мне с аналогичными просьбами, я им не откажу, как не отказываю тебе…
— Иуда! — крикнул Потапов, сверкнув глазами.
Тобольцев опять с хохотом кинулся его обнимать.
— Клянусь Богом, никогда не мог понять, почему ты с твоим темпераментом путаешься в этой партии роковых компромиссов?
Потапов легким движением локтя отстранил от себя приятеля.
— Потому что только эта партия одна на научной почве стоит, а не бредит и не утешается сказками… Вот что! — И Потапов вдруг закатился своим детским смехом, тыча пальцем в Тобольцева. — Анархист… Хо!.. Хо!.. Страсти какие! Хорошо ещё, что ты — один на всю Россию… А то ведь не заснешь от страха…
Но Тобольцев неожиданно обиделся.
— Послушай, шути над чем желаешь, но зачем ты стараешься меня унизить? Разве я драпировался когда-нибудь в тогу анархизма? Я — эстетик и индивидуалист. Да!.. Но… я тебе искренно говорю: в тот день, когда я прочел Жана Грава[161] и Себастиана Фора, словно пелена упала с моих глаз. И ваши чары, господа социалисты, рассеялись как дым. Так будет со многими, предсказываю тебе!
— Ладно… Поживем — увидим!.. Не пугай хоть на ночь-то!..
— Эта философия все мое миропонимание перевернула, не оставив в нем камня на камне… И с той высоты, на какую я поднялся теперь, узкими и жалкими кажутся мне все ваши задачи и грубыми заблуждениями — ваши идеалы. Вот почему я отвергаю все ярлыки. И остаюсь вне партий…
— Собачья страсть! — презрительно прошипел Потапов.
Тобольцев расхохотался невольно.