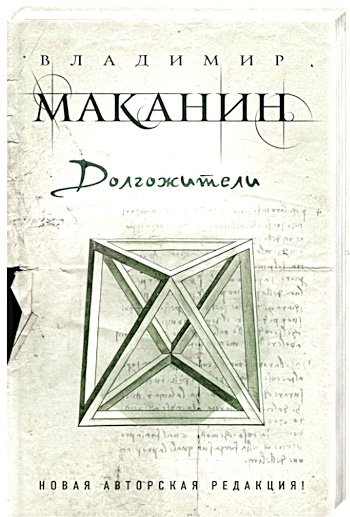коротенькое и сухое. Шурочка тут же послала ответное письмо, где после многих ласковых
слов вывела крупно их обычный возглас: «Ты, Куренков, у меня смотри!..» – и был это слезный
крик через расстояние, мольба.
35
В. С. Маканин. «Долгожители (сборник)»
5
Предчувствие продолжало мучить: ночами Шурочка просыпалась от стискивающегося
сердца или стремительно вскидывалась вдруг в постели неясно зачем. Поговорить было не с
кем. Днем в ателье было одиноко до слез. Она стояла на приемке, народ после обеда пошел
вялый, совсем неинтересный, а то и склочный. На трех крупных телевизионных экранах, из
которых в середине цветной, показывали приручение дельфина и объясняли, что этот дельфин
уже понимает человека. Дельфин прыгал через обруч. А так как три телевизора стояли рядом, получалось, что сразу три дельфина (в середине – бело-голубой) слаженно и четко прыгали
через обручи. Казалось, что сразу три дельфина уже понимают человека.
Со слов мастера Шурочка записывала поломки. Она выписывала квитанцию за квитан-цией. Народ шел. Народ нес. К горлу подкатила тошнота, и Шурочка поняла, что ей уже нев-моготу. Улучив минуту, она ушла, по ту сторону прилавка среди клиентов возникло недоволь-ство, которое скоро перейдет в крики. Но Шурочка решила, что пусть покричат.
Шурочка пошла к старшему мастеру: попросила отпустить. Она заплакала и рассказала
про предчувствие – попросила дать ей съездить навестить мужа.
– Но ты ж совсем недавно ездила. И охота тратиться – туда и обратно, дорога какая!
Мастер поворчал, но согласился:
– Поезжай.
Вечером Шурочка зашла к бывалому соседу Туковскому Виктору Викторовичу, который
когда-то сам был зэком. Он жил двумя этажами ниже. Шурочка зашла просто так, от слабости, а получилось вдруг хорошо, хотя ничего хорошего в конце такого тоскливого дня она уже не
ожидала. Седой Туковский и его жена, тоже седенькая, приняли Шурочку тепло и дружески, в
них оказалась определенная интеллигентность. Они напоили чаем с печеньем, и она просидела
у них весь вечер, то плача, то с жаром рассказывая о Толике. За долгое время она впервые
выговорилась.
Она упирала на свое предчувствие: сердце ее никогда не обманывало, она точно знает, что Толику сейчас плохо, и потому хочет поехать. Она уже собралась.
– Выпейте еще чашечку чая, милая Шура, – ласково ухаживала за ней жена Туковского.
Туковский же, выслушав ее до конца, сделался мрачен:
– Не так важно, что он опять с кем-то сцепился, а важно – с кем именно.
– Да, да, – поддакивала Шурочка.
– Важно, чтобы он не напоролся.
Туковский пояснил: даже, мол, удивительно, что с таким своеобразным характером он
до сих пор умудрился остаться живым и невредимым там, среди всякого рода блатных, сявок
и паханов. Там ведь не так, как на воле. Там проще. И как только он на настоящего напорется
– конец. Ему раньше просто везло. Эти Большаков и Рафик, про которых она рассказывала, это шушера – это, мол, обычные дурачки, нестрашные и куражливые. Туковский закурил.
Когда жена на минуту вышла, чтобы заварить новый чайник, Туковский тихо и как
дочери сказал:
– Несчастливая ты, Шурочка. Боюсь, не вернется он живым.
Он сказал как в воду глядел. Он еще спросил:
– Сколько ему быть там осталось?