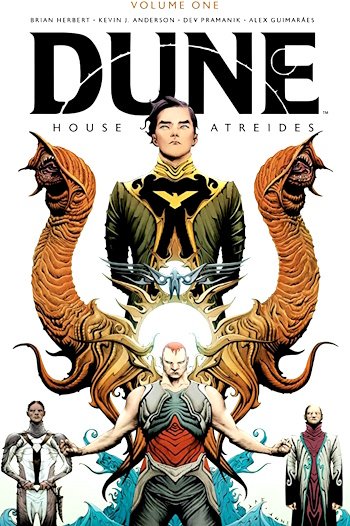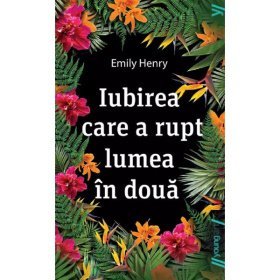Кухарка, ослепленная видом лихача и бобровым воротником барина, сняла цепочку с замка и держала дверь настежь. Но вход в переднюю загородила, словно приросла к месту.
— И вы не знаете, где у барышни урок перед обедом?
— Не могим знать… Оне не сказывают, куда идут. Может, барышня знает?
— А она дома?.. Ах да! И Минна Ивановна дома?
Кухарка усмехнулась.
— Будешь дома, коли Бог ноги отнял…
— Передайте ей мою карточку. Попросите принять!
Кухарка захлопнула дверь под носом Тобольцева.
Так учила её Катерина Федоровна, опасавшаяся жуликов.
Минна Ивановна, любопытная как все безногие, уже глядела на дверь, поджидая кухарку. Соня лежала на её постели в блузе, опухшая от слез. Она по уходе сестры, от которой заперлась на все утро, пришла к матери, рыдала у её ног и незаметно заснула на её постели каким-то каменным, больным сном.
— Там барин какой-то вас спрашивают, — таинственно зашептала с порога кухарка, протягивая карточку.
Старушка прочла фамилию, покраснела и испуганно поглядела на неподвижную Соню. Потом сделала прислуге знак, чтоб она помогла ей выкатить кресло в столовую. Обыкновенно она справлялась сама. Год назад Катерина Федоровна ко дню ангела подарила ей это дорогое кресло. Но теперь у неё дрожали руки, и она боялась застучать.
Не успел Тобольцев войти и приложиться к ручке будущей тещи, как слезы хлынули из глаз Минны Ивановны.
«Mein Gott! Auffallend schon!»[118] — подумала она, как всегда, по-немецки. В ней до сих пор жила женщина, умевшая ценить обаяние Тобольцева. И плакала она не только от радости, что перед нею жених Кати (которая ему не пара, о нет!)… а больше от огорчения за Соню, потому что эти оба (она это чувствовала) были созданы друг для друга.
Тобольцев оглянулся, взял стул и сел подле. Не отрывая лица, она замахала свободной рукой:
— Мой платок… там… в рабочей корзине, — расслышал он. И пошел в спальню.
На пороге он вздрогнул всем телом… Он увидал спавшую Соню. И все, что он пережил за эту ночь во сне и наяву, всё это вновь ударило по его нервам.
Соня мгновенно проснулась, как только глаза Тобольцева остановились на ней. Трудно сказать, дремал ли ещё её мозг, потому что она не удивилась присутствию Тобольцева, словно инстинктивно ждала его всё время? Считала ли она эту реальность продолжением её горячечных ночных грез? (Всю ночь она чувствовала себя в объятиях Тобольцева и его горячие губы на своих губах.) Повиновалась ли она только власти своих инстинктов и желаний? Кто скажет?.. Но вздох счастия приподнял её грудь. Глаза засияли навстречу Тобольцеву. Прелестная улыбка озарила лицо… Она села и протянула к нему руки с жестом беззаветной страсти:
— Сюда… Скорей!
Тобольцева сила какая-то толкнула к постели. Он обнял Соню и опять почувствовал (сон наяву!) прикосновение её груди, колен, всех точек её тела, её губы, запах волос и кожи, сонный запах из её рта, опьянивший его мгновенно… Он видел яркий блеск её полузакрытых глаз. «Какая красавица!» — понял он внезапно. И поцеловал её опять и опять, уже вполне сознательно и страстно.
Минна Ивановна кашлянула в столовой. Они оторвались друг от друга… Бледный, неверными шагами, Тобольцев отошел. Поглядел на рабочую корзинку, не видя ее; подергал себя за ворот… Опять поискал глазами по комнате, избегая глядеть на Соню… Наконец увидал корзинку и, захватив ее, вышел в зал. Но, выходя, он услыхал тихий, серебряный, счастливый смех, отдавшийся во всех его нервах.
Он не помнил, что спрашивала его Минна Ивановна и что он ей отвечал… Подняв голову, он увидал, что Соня приотворила дверь и в щелку глядит на него… А глаза у неё сверкают и губы смеются… И он сам начал улыбаться. И, не договорив начатой фразы, вдруг встал, поцеловал руку Минны Ивановны, незаметно кивнул Соне, которая за спиной матери посылала ему воздушные поцелуи, и уехал, оставив обеих женщин под очарованием какой-то весенней грезы.
— Мама, мама! — лепетала Соня, кидаясь на шею матери. — Ну, не правда ли, что его нельзя не любить?
Минна Ивановна не желала вникать в причины внезапного успокоения Сони. Она только радовалась наступившей вдруг тишине после этой ужасной ночи, когда Соня грозила отравиться и умереть в тот день, когда Катя поедет венчаться. Все хорошо, что хорошо кончается!..
Катерина Федоровна весь этот день на уроках двигалась как во сне, бессознательно улыбалась удивленным ученицам, пропускала мимо ушей их вопросы, без обычного раздражения поправляла ошибки и беспрестанно задумывалась. От зорких институток, боявшихся строгой учительницы, не могла, конечно, ускользнуть эта необыкновенная перемена.
— Эрлиха наша совсем блаженная, — шептались пианистки. — Я разноса ждала за rondo[119] Kalkbrenner’a[120]. Не могла с «группетто»[121] справиться… В тот раз она орала на меня, орала… кол поставила… А нынче я мажу, она хоть бы что!
Начальница, очень ценившая Катерину Федоровну, изумленно сощурилась на её лицо, когда встретила её в коридоре. Кажется, никаких перемен не было ни в строго-монашеском туалете молодой девушки, ни в её простой прическе, где волосок был пригнан к волоску… Но… лицо было уже не то! Какая-то женственность появилась в этой новой улыбке, в угловатых всегда движениях, в замедленной походке. Яркий румянец, всегда ровно игравший на смуглых щеках, теперь поминутно угасал на похудевшем в одну ночь лице. Глаза как бы ввалились, окруженные кольцом тени. В них был блеск усталости и лихорадочного возбуждения. И эти глаза прятались под густыми ресницами. Всегда резкий голос как-то глухо вздрагивал… Движения были растерянные. Но счастие сияло в лице, как солнце, и делало незаметную Катерину Федоровну интересной, даже красивой… Начальница проводила её долгим взглядом и, вздохнув, прошла дальше.
В свои тридцать восемь лет изящная и моложавая, она тайно жила с человеком моложе ее. Как опытная женщина, она тотчас угадала, что Катерина Федоровна влюбилась, что у неё есть любовник… На лице красивой начальницы, самой молодой в Москве, назначенной прямо из Петербурга и потому имевшей много врагов и завистников, всегда лежала тень затаенной грусти, которую объясняли тяжестью забот в огромном, ответственном деле. Все, приходившие с нею в соприкосновение, видели перед собой корректную, неизменно внимательную светскую женщину с непроницаемою усмешкой и зорким взглядом. Никто не догадывался, что с одиннадцати вечера, когда институт погружался в сон и мрак, начальница живет личной жизнью, полной тайны и поэзии. В лунные ночи выходит на внутренний дворик и часами глядит в небо, думая о Петербурге, где та же луна светит её неверному любовнику, которого она не может разлюбить, которого не перестает ждать… Или садится за рояль в своей квартире и, заперев все двери и завесив портьеры, чтобы звуки «ереси» не доносились до целомудренных ушей дежурных классных дам, играет с огнем и страстью венгерские танцы Брамса и вальсы Штрауса… Или же напевает песни цыган, которых она часто слушала с «ним» потихоньку в Петербурге… А иногда, бросая книгу французского романа, плачет по ночам и ломает руки от мысли, что жизнь уходит вдали от любимого человека, что молодость ушла, что никогда не вернуть того, что было и угасло…
Лицо Катерины Федоровны целый день стояло перед глазами начальницы. «Счастливая! — думала она. — Но надолго ли? И чем это кончится? Если выйдет замуж…»
Тут мысли начальницы принимали другое направление. Катерина Федоровна была инспектрисой музыки и заведовала вот уже два года всей музыкальной частью в институте. А музыка и пение считались там чуть ли не главными предметами. Из Петербурга постоянно наезжали царственные гости. Их встречали и провожали пением… На акты съезжалось начальство других институтов, и ни один промах в этом деле не прошел бы незамеченным… Институт обладал громадной, ценной библиотекой с мессами Россини[122], со старинными XVIII века произведениями Глюка[123], Люлли[124], Гретри[125] и т. д. всё это лежало фактически на плечах Катерины Федоровны. Романтический элемент, так неожиданно вторгшийся в жизнь суровой девушки, всеми давно обреченной на долю старой девы, хотя и делал её более близкой и интересной для начальницы, но он же угрожал в недалеком будущем такими осложнениями, что у графини прямо руки опускались. «Хотя бы уж жила так! Подождала бы замуж выходить, если детей не будет…»
О, если б враги графини проникли в ересь этих мыслей!.. По правилам института, выработанным не столько в силу традиций, сколько самой жизнью, в классные дамы и учительницы поступали только вдовы и девицы. И начальница, знавшая, что враги не дремлют, не решилась бы никогда на такое новшество: оставить в институте замужнюю учительницу.
В этот день Катерина Федоровна была дома только за завтраком, какие-нибудь полчаса. Сестры не видала… Минна Ивановна шепотом заявила старшей дочери, что Соня ночь не спала и не позвать ли доктора. Катерина Федоровна насупилась.
— Пустяки, мама! Не огорчайтесь!.. Она с семи лет влюбляется и всякий раз помирать хочет… Помните этот скандал с учителем истории? Когда я записку её к нему перехватила?
— Ах, Катя!.. Тогда она была дитя… В тринадцать лет…
Глаза Катерины Федоровны сверкнули.
— Вот в том-то и горе наше с вами, что никогда она не была «дитя», а только дрянь-девчонка, которую пороть надо было, а не баловать, как вы! Ну-ну… Полно!.. Вы лучше за меня порадуйтесь… Теперь вся наша жизнь изменится. Я вас обеих возьму к себе… Заживем панами… Вы будете рябчики каждый день кушать. Софье куплю голубое шелковое платье, о котором она мечтает… Все капризы её исполню. Помяните мое слово: Софья через неделю от своей страсти вылечится. Ну, улыбнитесь, мамочка! Меня пуще всего злость берет на Софью, что она вас не щадит…
— Уж ты её не брани, оставь! — лепетала, сморкаясь, наполовину успокоенная Минна Ивановна.
— Не буду бранить, если вы котлетку скушаете…
— Ну… ну! — И Минна Ивановна протянула тарелку, не замечая, что время бежит, а Катерина Федоровна ещё не ела сама.
В четыре часа Катерина Федоровна выходила из института. Она торопилась обедать. У неё в этот день было ещё три урока.